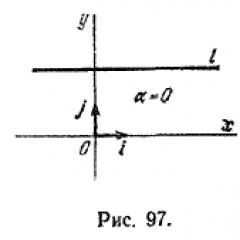Московский государственный университет печати. Сочинение Толстой Л.Н
Сочинение Толстой Л.Н. - После бала
Тема: - Моральная ответственность человека за свою и чужую жизнь
(по рассказу Л. Н. Толстого «После бала»)"Каждый человек, каким бы замкнутым или одиноким он ни был, определенным образом воздействует на жизнь окружающих, так же как и чужие поступки влияют на его судьбу.
Судьба главного героя рассказа Л. Н. Толстого - Ивана Васильевича - резко изменилась после событий всего лишь одного утра. Окончив университет, он не выбрал, как планировал карьеру военного, просто стал «всеми уважаемым» человеком.
В молодости, в годы обучения в университете, Иван Васильевич был «очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый». Его жизнь была лишена сколько-нибудь серьезных проблем. Он, казалось, наслаждался своей бесшабашной молодостью: катался на своем иноходце, кутил с товарищами, танцевал на балах.
Один из балов особенно понравился и запомнился студенту, потому что на нем присутствовала любимая им девушка - Варенька. Воспоминания Ивана Васильевича об этой ночи полны восторга, восхищения, радости, счастья. Благосклонность и расположение Вареньки, вальсы и мазурки, смех и улыбки сделали этот бал незабываемым для студента: «Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро».
Вернувшись домой, взволнованный юноша не мог уснуть и отправился встречать утро на улицу. Все казалось ему «особенно мило и значительно». Однако безмятежное счастье молодого человека было внезапно развеяно ужасной картиной наказания татарина, проходящего сквозь бесконечный строй солдат, вооруженных палками. Не человек, а подобие человека двигалось под ударами шпицрутенов. Командовал этим жестоким избиением не кто иной, как отец Вареньки - красивый, высокий полковник, строго наблюдающий, чтобы каждый из солдат оставил свой след на спине несчастного. Увиденная картина не просто поразила Ивана Васильевича - «у него на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска». Он не понимал, как увиденное могло происходить на самом деле, как полковник мог играть такую ужасную роль: «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю... Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня».
На всю жизнь запомнил ужасную картину Иван Васильевич. Другими глазами посмотрел он на окружающих людей - и на себя тоже. Не умея изменить или остановить зло, юноша отказался от своего в нем участия.
Предваряя главное художество графа А.К.Толстого поясним, что название его даже самим автором писалось по-разному и наиболее распространенное звучит так:
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО ОТ ГОСТОМЫСЛА ДО ТИМАШЕВА
Гостомысл - легендарный русский князь, по преданию VI века основавший Великий Новгород и правивший в нем до "призвания варягов". Тимашев А.К. - начальник штаба корпуса жандармов и третьего отделения собственной его величества канцелярии, а с 1868-1877 г.г. - министр внутренних дел.
Слово "наряда" в эпиграфе означает, что "Вся земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет".
Вся земля наша велика и обильна,
а наряда в ней нет.Нестор, Летопись, стр. 8.
Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет.И стали все под стягом,
И молвят: «Как нам быть?
Давай пошлем к варягам:
Пускай придут княжить.Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».
Посланцы скорым шагом
Отправились туда
И говорят варягам:
«Придите, господа!Мы вам отсыплем злата,
Что киевских конфет;
Земля у нас богата,
Порядка в ней лишь нет».Варягам стало жутко,
Но думают: «Что ж тут?
Попытка ведь не шутка -
Пойдем, коли зовут!»
И вот пришли три брата,
Варяги средних лет,
Глядят - земля богата,
Порядка ж вовсе нет.«Ну, - думают, - команда!
Здесь ногу сломит черт,
Es ist ja eine Schande,
Wir mussen wieder fort *» .Но братец старший Рюрик
«Постой, - сказал другим, -
Fort, gehen ungebiirlich,
Vielleicht ist"s nicht so schlimm **.* Ведь это срам - что мы опять должны уйти
** Уйти недостойно, может быть тут не так уж все плохо.
Хоть вшивая команда,
Почти одна лишь шваль;
Wir bringen"s schon zu Stande,
Versuchen wir einmal *»И стал княжить он сильно,
Княжил семнадцать лет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет!* Как-нибудь справимся, давайте попробуем
За ним княжил князь Игорь,
А правил им Олег,
Das war ein grosser Krieger *
И умный человек.Потом княжила Ольга,
А после Святослав;
So ging die Reihenfolge **
Языческих держав.* Он был великий воин
** Такова была последовательность
Когда ж вступил Владимир
На свой отцовский трон,
Da endigte fur immer
Die alte Religion *.* Тогда пришел конец старой религии
Он вдруг сказал народу:
«Ведь наши боги - дрянь,
Пойдем креститься в воду!»
И сделал нам Иордань.«Перун уж очень гадок!
Когда его спихнем,
Увидите, порядок
Какой мы заведем!»Послал он за попами
В Афины и Царьград
Попы пришли толпами,
Крестятся и кадят,Поют себе умильно
И полнят свой кисет;
Земля, как есть, обильна,
Порядка только нет.Умре Владимир с горя
Порядка не создав.
За ним княжить стал вскоре
Великий Ярослав.Оно, пожалуй, с этим
Порядок бы и был;
Но из любви он к детям
Всю землю разделил.Плоха была услуга,
А дети, видя то,
Давай тузить друг друга:
Кто как и чем во что!Узнали то татары:
«Ну, - думают, - не трусь!»
Надели шаровары,
Приехали на Русь.«От вашего, мол, спора
Земля пошла вверх дном,
Постойте ж, мы вам скоро
Порядок заведем».Кричат: «Давайте дани!»
(Хоть вон святых неси.)
Тут много всякой дряни
Настало на Руси.Что день, то брат на брата
В орду несет извет;
Земля, кажись, богата
Порядка ж вовсе нет.Иван явился Третий;
Он говорит: «Шалишь!
Уж мы теперь не дети!»
Послал татарам шиш.И вот земля свободна
От всяких зол и бед
И очень хлебородна,
А все ж порядка нет.Настал Иван Четвертый,
Он Третьему был внук;
Калач на царстве тертый
И многих жен супруг.
Иван Васильич Грозный
Ему был имярек
За то, что был серьезный,
Солидный человек.Приемами не сладок,
Но разумом не хром;
Такой завел порядок,
Хоть покати шаром!Жить можно бы беспечно
При этаком царе;
Но ах! ничто не вечно -
И царь Иван умре!За ним царить стал Федор,
Отцу живой контраст;
Был разумом не бодор,
Трезвонить лишь горазд.
Борис же, царский шурин,
Не в шутку был умен,
Брюнет, лицом недурен,
И сел на царский трон.При нем пошло всё гладко,
Не стало прежних зол,
Чуть-чуть было порядка
В земле он не завел.К несчастью, самозванец,
Откуда ни возьмись,
Такой задал нам танец,
Что умер царь Борис.И, на Бориса место
Взобравшись, сей нахал
От радости с невестой
Ногами заболтал.Хоть был он парень бравый
И даже не дурак,
Но под его державой
Стал бунтовать поляк.А то нам не по сердцу;
И вот однажды в ночь
Мы задали им перцу
И всех прогнали прочь.Взошел на трон Василий,
Но вскоре всей землей
Его мы попросили,
Чтоб он сошел долой.Вернулися поляки,
Казаков привели;
Пошел сумбур и драки:
Поляки и казаки,Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки;
Мы ж без царя как раки
Горюем на мели.Прямые были страсти -
Порядка ж ни на грош.
Известно, что без власти
Далёко не уйдешь.Чтоб трон поправить царский
И вновь царя избрать,
Тут Минин и Пожарский
Скорей собрали рать.И выгнала их сила
Поляков снова вон,
Земля же Михаила
Взвела на русский трон.Свершилося то летом;
Но был ли уговор -
История об этом
Молчит до этих пор.Варшава нам и Вильна
Прислали свой привет;
Земля была обильна -
Порядка ж нет как нет.
Сев Алексей на царство,
Тогда роди Петра.
Пришла для государства
Тут новая пора.Царь Петр любил порядок,
Почти как царь Иван,
И так же был не сладок,
Порой бывал и пьян.
Он молвил: «Мне вас жалко,
Вы сгинете вконец;
Но у меня есть палка,
И я вам всем отец!..
Вернувшися оттуда,
Он гладко нас обрил,
А к святкам, так что чудо,
В голландцев нарядил.Но это, впрочем, в шутку,
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.
Хотя силён уж очень
Был, может быть, приём;
А все ж довольно прочен
Порядок стал при нем.Но сон объял могильный
Петра во цвете лет,
Глядишь, земля обильна,
Порядка ж снова нет.
Тут кротко или строго
Царило много лиц,
Царей не слишком много,
А более цариц.Бирон царил при Анне;
Он сущий был жандарм, .
Сидели мы как в ванне
При нем, dass Gott erbarm ! ** Помилуй нас Бог
Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится,
Порядка только нет.Какая ж тут причина
И где же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет, -
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот, -Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».
«Messieurs, - им возразила
Она, - vous me comblez *», -
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.За ней царить стал Павел,
Мальтийский кавалер,
Но не совсем он правил
На рыцарский манер.* Господа, вы мне льстите
Царь Александр Первый
Настал ему взамен,
В нем слабы были нервы,
Но был он джентльмен.Когда на нас в азарте
Стотысячную рать
Надвинул Бонапарте,
Он начал отступать.Казалося, ну, ниже
Нельзя сидеть в дыре,
Ан глядь: уж мы в Париже,
С Louis le Desire.В то время очень сильно
Рацвел России цвет,
Земля была обильна,
Порядка ж нет как нет.Последнее сказанье
Я б написал мое,
Но чаю наказанье,
Боюсь monsieur Veillot.
Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.Оставим лучше троны,
К министрам перейдем.
Но что я слышу? стоны,
И крики, и содом!Что вижу я! Лишь в сказках
Мы зрим такой наряд;
На маленьких салазках
Министры все катят.С горы со криком громким
In corpore *, сполна,
Скользя, свои к потомкам
Уносят имена.* В полном составе
Се Норов, се Путятин,
Се Панин, се Метлин,
Се Брок, а се Замятнин,
Се Корф, се, Головнин.Их много, очень много,
Припомнить всех нельзя,
И вниз одной дорогой
Летят они, скользя.Я грешен: летописный
Я позабыл свой слог;
Картине живописной
Противостать не мог.Лиризм, на все способный,
Знать, у меня в крови;
О Нестор преподобный,
Меня ты вдохнови.Поуспокой мне совесть,
Мое усердье зря,
И дай мою мне повесть
Окончить не хитря.Итак, начавши снова,
Столбец кончаю свой
От рождества Христова
В год шестьдесят восьмой.У видя, что всё хуже
Идут у нас дела,
Зело изрядна мужа
Господь нам ниспосла.На утешенье наше
Нам, аки свет зари,
Свой лик яви Тимашев -
Порядок водвори.Что аз же многогрешный
На бренных сих листах
Не дописах поспешно
Или переписах,То, спереди и сзади
Читая во все дни,
Исправи правды ради,
Писанья ж не кляни.
Составил от былинок
Рассказ немудрый сей
Худый смиренный инок,
Раб божий Алексей.Граф А.К.Толстой
1868Опубликовано впервые в "Русской старине" в 1883 году под названием "Русская история от Гостомысла 862-1868", до этого широко распространялась в списках.
Иллюстрации В.Порфирьева по публикации в журнале "Стрекоза", 1906 г.Самое интересное, что у этой Истории оказалось несколько продолжений - и одно было напечатано в 1917 году, сразу после февральской революции. Правда, автором его был не А.К.Толстой.
ПОСЛЕ БАЛА
– Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.
Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменять условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.
Так он сделал и теперь.
– Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.
– От чего же? – спросили мы.
– Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.
– Вот вы и расскажите.
Иван Васильевич задумался, покачал головой. – Да,– сказал он.– Вся жизнь переменилась от одной ночи, или, скорее утра.
– Да что же было?
– А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б…, да, Варенька Б…,– Иван Васильевич назвал фамилию.– Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная, и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.
– Каково Иван Васильевич расписывает.
– Да как ни расписывай, расписать нельзя так чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег – ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.
– Ну, нечего скромничать,– перебила его одна из собеседниц.– Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.
– Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты – знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня; препротивный инженер Анисимов – я до сих пор не могу простить это ему – пригласил ее, только она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.
По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore». И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.
– Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело,– сказал один из гостей.
Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:
– Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr,– хороший был писатель,– на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете…
– Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.
– Так после ужина кадриль моя? – сказал я ей, отводя ее к ее месту.
– Разумеется, если меня не увезут,– сказала она, улыбаясь.
– Я не дам,– сказал я.
– Дайте же веер,– сказала она.
– Жалко отдавать,– сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.
– Так вот вам, чтоб вы не жалели,– сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.
Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.
Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями. - Ты простой парень! Хорошо это! - говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу. Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах. Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, - я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев - пышных, румяных и высоких - не оказалось "притиска", я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, "подъемистые", в меру румяные, с тонкой хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне: - Эх, какого красавца мы с тобой сработали... И мне было приятно смотреть на (этого гигантского) ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, - как это и следует делать каждому человеку во всякой работе... Однажды я спросил его: - Саша, говорят, ты поешь хорошо? - Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И, ежели петь начну - затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, - штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет? Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и через некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня: - Брось! Не стони! Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать. Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза. - Про что книжка? Это были "Подлиповцы". - Почитай вслух, а?.. - попросил он. И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами, - у меня до сей поры они в памяти - широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые кверху брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, - вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы. Наконец я устал и закрыл книгу. - Все уж? - шепотом спросил меня Коновалов. - Меньше половины... - Всю вслух прочитаешь? - Изволь. - Эх! - Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения. - Как ты это читаешь! - шепотом заговорил он. - На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это все правда. Ведь это как есть настоящие люди, всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь - читай дальше! Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза - печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Все это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча. Коновалов, нахмурив брови, изредка кратко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился... К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одеревенел. Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени... - Хорошо? - спросил я. Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил: - Кто же это сочинил? - В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством. Я рассказал, кто написал книгу. - Ну - человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет - вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было? - То есть как? - Ну, например, дали ему награду или что там? - А за что ему нужно дать награду? - спросил я. - Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и... - И - что? Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил: - Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать. В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но - увы! - она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал. Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал. Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня. - Так ему, значит, ничего и не дали? - спросил он. - Кому? - осведомился я, позабыв о Решетникове. - Сочинителю-то? Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы. Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул. - Как все это премудро, господи! - вполголоса заговорил он. - Написал человек книгу... бумага и на ней точечки разные - вот и все. Написал и... умер он? - Умер, - сказал я. - Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди - Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем - ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?.. А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было? Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям... Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами. - Порядки, - вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой. Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки - единственной утехи их многотрудной жизни. - Да разве такие люди пьют? - шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. - Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают? Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил. - Конечно, после, - решил Коновалов. - Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И вольют тоску в книги... Это уж не помогает, потому - сердце тронуто, из него тоски огнем не выжжешь... Остается - водкой ее заливать. Ну и пьют... Так я говорю? Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости. - Ну, и по всей правде, - продолжал он развивать психологию сочинителей, - следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например, - что такое? Босяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет,- понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки - и все тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть - это мне неизвестно... Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы. - Ну, и что же дальше? - допытывался я. - Дальше?.. Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне,- мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь? Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях - жертвах жизни и о людях - владыках ее. Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу все резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи. Мне льстило все это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он - печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал: - Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели... Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова. Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо. - Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Всь из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина - очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих незадачах, а ты - всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босяком - потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как все это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!.. - Погоди,- сказал я,- ты согласен со мною? Верно я говорил? - Тебе лучше знать, верно или нет,- ты грамотный... Оно, пожалуй,- ежели взять других,- так верно... А вот ежели я... - То что? - Ну, я - особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет - в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его - однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит - во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я - много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы - чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы перед собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем... Он - этот большой человек с ясными глазами ребенка - с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее не нужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще не виданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости,- они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он "жертва среды и условий", тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собой за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне: - Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец! В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом "интеллигент". Но в устах босяка, - хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов, - из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно - особая статья, но я не хотел этого. С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые... Мы с ним спорили все жарче. - Да погоди, - кричал я, - как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет? - Упрись крепче! - возглашал мой оппонент, горячась и сверкая глазами. - Да во что упереться? - Найди свою точку и упрись! - А ты чего же не упирался? - Вот я те и говорю, чудак человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую - не нахожу! Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать. Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо. Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул. Поутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай. - Что, у тебя есть книжка? - спросил Коновалов. - Есть... - Почитаешь мне? - Ладно... - Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину - тебе! - На что? - Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи - хоть две. Мне - которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные - чепуха совсем! Панфилка и Филатка - даже с картинкой на первом месте - дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя. - Хочешь про Стеньку Разина? - Про Стеньку? Хорошо? - Очень хорошо... - Тащи! И вскоре я уже читал ему Костомарова: "Бунт Стеньки Разина". Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю. - А почему тут разговоров нет? - спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил - почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне: - Читай - ничего! Это я так... Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и "князь волжской вольницы" вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, - он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и все то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, - теперь потемневшим и суженным, - исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал. - Читай, - тихо, но внушительно сказал он. - Ты что? - Читай! - повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение. Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он все более разгорается. Он него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня - какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку. - Поймали! - крикнул Коновалов. Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе. У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил: - Погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим! Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка - родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без "точки" духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола. - Да читай, Христа ради! Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток. Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидел это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь. "Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол..." - Будет!.. К черту! - крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней. Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны. Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение. - Максим! - говорил Коновалов, сидя на полу. - Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а? И он весь вздрагивал. Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них. Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток. - Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? - уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. - А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов? Я показал ему, и он впился глазами в эти строки. - Так и написано: "зубы свои выплюнул с кровью"? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека! Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке. Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы все говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их. Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.