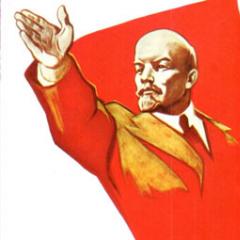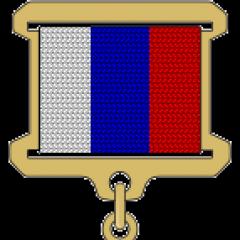Быть может он для блага мира. Сочинения
Здравствуйте уважаемые.
Пожалуй, сегодня закончим с Вами с 6 частью замечательного и знаменитого произведения Александра Сергеевича. Напомню, что в прошлый раз мы с Вами остановились вот тут вот:
Давайте продолжим...
Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянье;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.
Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?
Сильные строчки, согласитесь? Очень сильные....
В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
"Ну, что ж? убит", - решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.
Зарецкий как секундант должен был произвести все необходимые действия по дуэльному кодексу- забрать тело и отвести домой.
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств, и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
Тут возвышенное и что-то восхитительное высокое и яркое. А вдруг Ленский действительно стал бы новым Солнцем Русской поэзии... вдруг.
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.
Прозаика, все-таки ближе к теме. Александр Сергеич довольно-таки точно описывает судьбу Ленского, если бы он выжил. Так бы оно и было - я просто уверен. Кстати, хочу обратить Ваше внимание на 2 момента. Первое - расставание с музами, что можно читать как метафорически, так и буквально. И кстати, красиво звучит - я женился, поэтому пришлось расстаться с музами:-)) А второй аспект - про рогатость. Сиречь даже в сельской глуши, помещецы ухитрялись находить себе любимых дружков и изменять своим "толстеющим и хиреющим" мужьям. Или же, все-таки, это просто страхи Пушкина? Мы знаем, как его подобное задевало, и, кстати, в конце концов привело к гибели. Ну и еще момент - Подагра - это отложение солей мочевой кислоты в организме, бич 19 столетия.
Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.
Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбарей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провождая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним остановляет,
Ремянный повод натянув,
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись - и слеза
Туманит нежные глаза.
Флер - в смысле вуаль. ну а концовку позвольте оставить и вовсе без комментариев. Читайте, наслаждайтесь, восхищайтесь ярким и искрометным пером А.С.Пушкина.
И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погрузясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: "что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?"
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,
Но не теперь. Хоть я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я - со вздохом признаюсь -
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, хладные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света, и в тиши
Тревожат сон моей души.
Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, младость?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?
Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я насладился... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.
Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!
Продолжение следует...
Приятного времени суток.
В Культурном центре «ЗИЛ» состоялась лекция филолога, преподавателя РАНХиГС Леонида Клейна «Евгений Онегин. Русская формула блаженства». Он рассказал, какой рецепт счастья предлагает своим читателям Пушкин и почему нельзя спрашивать, что случилось бы, ответь Татьяна Онегину взаимностью. «Лента.ру» записала основные тезисы его выступления.
В преподавательской практике встречаются студенты, которые не смогли или не захотели полностью прочесть, например, «Войну и Мир», но тех, кто не прочел «Евгения Онегина», довольно мало. Кроме того, этот роман обычно перечитывают - и дело не только в небольшом объеме произведения. Если мы возьмем содержание «Онегина» и начнем разбирать сюжет, окажется, что совершенно непонятно, чем же мы там интересуемся.
Сюжет ничтожен
Сюжет романа «Евгений Онегин» странный и, по большому счету, совершенно неактуальный. Мне рассказали, что англичане интересовались культурой России и, прекрасно зная Байрона, прочитали это произведение, после чего задали вопрос образованному русскому человеку: «Было два друга, один просто так убил другого, их девушки вышли замуж за военных. Это ваше все?»
В сюжете «Онегина» действительно нет ничего, о чем можно было бы серьезно говорить. В «Мертвых душах» - авантюрный сюжет, в «Войне и Мире», как в «Анне Карениной» и, например, «Обломове», понятен колоссальный авторский замысел. А здесь мы кому должны посочувствовать? Конечно, можно сказать, что это некорректный вопрос, но все-таки, есть ли там герои, на чью сторону мы можем встать?
Онегин, убив на поединке друга, «дожив бесцельно до двадцати шести годов», «ничем заняться не умел». Татьяна, как мне школьники говорили, «послала всего одну эсэмэс» и потом всю жизнь страдала. В сюжете этого романа нет того, что мы можем назвать (в кавычках или без) любовью. «Я вас люблю (к чему лукавить?), но я другому отдана и буду век ему верна» - эту фразу все русские люди знают. (Не в этом ли, кстати, одна из причин культурного кода, который программирует семейные несчастья в России?) Фактически Татьяна заявляет, что изменяет мужу, но делает это не так, как ей бы самой хотелось. Еще Пушкин, что очень важно, сам не дает возможности сочувствовать героям, он просто обрывает роман:
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда...
То есть проблема романа не в том, что же будет дальше, а в том, что дальше ничего нет. Получается, с одной стороны, сюжет ничтожен, а с другой - отношение Пушкина, который компонует обрывки жизни героев, чрезвычайно странное. И все это называется одним из главных произведений русской литературы! Только когда мы расстаемся с сюжетом и начинаем читать роман внутренним взором, становится ясно, почему же это все-таки главное произведение и почему мы наслаждаемся им.
Пушкин - и кукольник, и кукла
Если главная искра этого произведения высекается не в сюжете, то где? Мне кажется, что она, а точнее огонь, который «тлеет медленно», - это поэтическая интонация. Пушкин чрезвычайно дружелюбен, тактичен, психологичен и бережен к читательскому опыту человека, который берется за его роман. Поэт ничего не нагнетает, не заманивает нас сюжетом, не перегибает палку эмоций и страстей. Он находит невероятную поэтическую интонацию, и мы погружаемся в нее:
Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.
Фраза «тоской и рифмами томим» - может быть, то, ради чего пишется роман. Но чтобы сказать что-то серьезное и сокровенное, Пушкину нужно обернуть это в ворох блесток, шуток и несерьезности. Он, в первую очередь, поэт, и это для него самое главное, он весь роман как бы со стороны на себя смотрит: «Я думал уж о форме плана и как героя назову, покамест моего романа окончил первую главу». Еще одна странность: «Пересмотрел все это строго: противоречий очень много, но их исправить не хочу».
С одной стороны, он пытается провести какую-то сознательную работу, а с другой - уже первую главу закончил. То есть он в бреду, что ли, пишет? И если есть противоречия, почему бы их не исправить? Потому что Пушкину интересен процесс написания и он показывает нам, как произведение устроено. В парижском Центре Помпиду все канализационные трубы вывернуты наружу, Пушкин делает фактически то же самое открытие, но в литературе и на двести лет раньше.
Поэт, прежде всего, занят написанием романа и рефлексией по поводу того, как он пишет этот роман. Мы же, по большому счету, наслаждаемся не сюжетом, а беседой с автором. Одновременно с этим Пушкин сам является героем своего романа и говорит какие-то странные вещи, например: «Письмо Татьяны предо мной, его я свято берегу». А затем: «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».
Позиция Пушкина (одновременно и кукольника, и куклы) очень хитрая, но она дает ему абсолютную свободу: он бродит среди этих героев, то выходя на сцену, то скрываясь за ней. В этот момент и создается объем произведения, которое вы никогда не назовете маленьким. Белинский говорил, что «Евгений Онегин» - это энциклопедия русской жизни. На мой взгляд, это, скорее, не энциклопедия, а грамматика того, как надо писать. Кстати, Анна Ахматова это очень хорошо чувствовала, у нее есть прекрасное четверостишие:
И было сердцу ничего не надо,
Когда пила я этот жгучий зной...
«Онегина» воздушная громада,
Как облако, стояла надо мной.
Самый популярный вопрос о романе: «А было ли это на самом деле? А прототипы кто?» Мы до чего хотим докопаться? Конечно, не было ничего на самом деле: реальность «Евгения Онегина» давно превзошла реальность своих прототипов, если они существовали. Этот роман знает любой русский человек, «Войну и мир» знает любой образованный человек. В этом смысле литература, то есть выдумка, оказалась гораздо реальнее, чем то, что происходило на самом деле. Пушкин вырывается в область свободы и начинает писать, когда отвлекается от сюжета:
Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнию, друзья!
Ее ничтожность разумею,
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных Аонид…

Пушкин практически уверен в своем поэтическом бессмертии, но для него это объект для самоиронии. Человек не может воспринимать серьезность в очень больших дозах, и роман «Евгений Онегин» гомеопатичен, поскольку все самое важное в нем дается в таком количестве, чтобы можно было воспринять. У Пушкина отличное чувство меры - он описывает мир трагический, но абсолютно прекрасный. При этом каждому он дает необходимое. Тем, кому нужна любовная история, он дает ее:
И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот возьми ее скорей!)
Для своего же читателя он, конечно, пишет роман о себе и о литературе. Вот, пожалуй, главный пример блестящего чувства меры и виртуозной игры с читателем. (Строфе предшествует сцена, в которой Татьяна ждет появления Онегина с невероятным волнением.)
Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею, прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И, как огнем обожжена,
Остановилася она.
Это мощные строки, в них зарождается момент истины. И вдруг поэт заканчивает главу:
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.
Пушкин над кем в этот момент издевается? Понятно, что над читателем, но не только: поэт показывает нам, что сама история не так важна, как кажется. Затем идет следующая глава, в которой пропущены первые шесть строф, то есть с нами продолжают играть. Дальше начинается объяснение Татьяны с Евгением, и оно тоже сбивает весь настрой, потому что Евгений говорит очень жесткие вещи, что недостоин и не влюблен. Это совсем не то, чего ожидала Татьяна. По сути, она поставлена перед Онегиным в такую же ситуацию, в какой читатель находится перед текстом: он ожидает сюжета, а ему говорят, что сюжет не важен. Татьяна - так же не подготовлена к жизни, как массовый читатель не подготовлен к чтению «Онегина».
Пушкинская формула счастья
Поэт говорит о матери Татьяны, которая в какой-то момент отодвинула романы, «солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы» и «...меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять». То есть мать Татьяны выбрала быт, а не культуру (или псевдокультуру). А Татьяна выбрала культуру - и кто из них прав? Пушкин намекает, что, возможно, мать Татьяны «привычкой усладила горе». Поэт подходит к тому, что его действительно волнует: как сделать так, чтобы попасть в такт жизни?

Вот Татьяна - влюбилась в Онегина, все сделала как положено, но несчастлива. Вот ее мать, которая хоть и по-другому, но тоже сделала как положено. Про нее непонятно, счастлива она или нет. У няни не было выбора, она тоже несчастлива. Выходит, все три женских персонажа несчастливы, по крайней мере, в семейной жизни.
Кто остается? Ленский, который, как это ни поразительно, счастлив, потому что, как говорилось в советском анекдоте, прожил жизнь, «не приходя в сознание». Ему не пришлось выбирать между культурой и бытом и не пришлось испытать никакого разочарования.
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне счастлив и рогат
Носил бы стеганый халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел,
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей
Это описано гораздо сочнее, чем «тайная лира».
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто недочел ее романа
Как я с Онегиным моим.
Если упрощать, расстановка сил в романе такая: Татьяна читает произведения, не понимая, что между литературой и жизнью - пропасть, Онегин все понимает и мог бы быть хорошим поэтом, но он не поэт, а Ленский пишет второсортные произведения.
Онегин говорит Ленскому:
«Неужто ты влюблен в меньшую?»
- А что? - «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Пушкин показывает тем самым, что человеческая душа живая, что никто не может быть всегда на высоте, на острие своего чувства, на вершине эмоций. Поэт не хочет никому, а особенно себе надоедать, он не хочет быть назидательным. Для поэта это чрезвычайно важный момент: как не сойти с ума от скуки (в экзистенциальном смысле, а не в смысле «чем бы заняться»). Он дает нам какие-то намеки на правильный выбор, например, через отца Татьяны, который жил естественной жизнью.

Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир
Под камнем сим вкушает мир.
Эта простая жизнь, по Пушкину, конечно, лучше каких-то претензий на сложную. Но Онегин (очень важно, что именно он - главный персонаж) простой жизнью жить не может, потому что у него уровень образования и культуры другой. Он умный человек, но живет слишком сложной жизнью. Почему? У него, очевидно, есть задатки быть деятельным, но он ничем не занимается: день и ночь у него перемешаны, масса контактов, многое он делает просто автоматически.
Ближе к финалу романа он попадает в ловушку: по-настоящему влюбляется и, в отличие от Татьяны, пишет письмо на русском, а не на французском языке, что очень важно. В отличие от Татьяны, он действительно ничего не хочет. Его накрыло волной настоящего чувства, и он прекрасно понимает, что это чувство безысходное, трагическое и с ним придется как-то жить, потому что никакого ответа не будет. Чувство Онегина нельзя топить ни в книжках, ни в идеале, потому что он влюбился в реальную Татьяну.
Онегин делал все не вовремя, а Татьяна сделала вовремя («пришла пора, она влюбилась»), но ничего не получилось ни у одного, ни у другой. Ленский сошел с дистанции, Ольгу как героя, на которого можно было бы ориентироваться, мы не рассматриваем. Получается, что тех, кто может попасть в такт жизни, в «Евгении Онегине» нет вообще.
Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.
Все герои поэта проваливают этот экзамен, кроме одного - самого поэта. Выходит, по Пушкину, этот экзамен можно не провалить только с помощью поэзии. То есть он дает рецепт, который практически никому пригодиться не может.
Вот, по-моему, главная строфа всего романа:
Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.
Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, младость?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?
Пушкин пытается сказать самое главное «без элегических затей»: дожить до тридцати лет в состоянии творчества гораздо сложнее, чем умереть в восемнадцать. Поэт столкнулся с тем, что жизнь продолжается и необходимо как-то этому продолжению отвечать каждым прожитым днем, и это очень сложно для думающего человека.
Уж разрешалася весна
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Вот, собственно, разгадка: можно умереть, как Ленский. Можно сойти с ума, как Евгений в «Медном Всаднике», это тоже реакция на мир. А можно сделаться поэтом. Но если вы никто, вам очень трудно быть. Просто жить - невозможно. В этот момент «Евгений Онегин» поднимается на очень мощную философскую высоту. Значит ли это, что мы не можем счастливо жить? Понятно, что я не рискну отвечать на этот вопрос, но скажу: если мы не можем быть поэтами, то можем быть взрослыми читателями.
Прости ж и ты, мой спутник странный,
И ты, мой верный Идеал,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый труд. Я с вами знал
Всё, что завидно для поэта:
Забвенье жизни в бурях света,
Беседу сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне -
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще неясно различал.
У Пушкина есть этот «магический кристалл» культуры, сквозь который можно смотреть на мир и не сойти с ума. Для этого же нужно читать книги.
Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый Идеал...
О много, много Рок отъял!
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел Ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Обратите внимание: жизнь продолжается, и при этом она всегда обрывается неожиданно. Пушкин как бы задает вопрос: возможно ли о жизни рассказать в романе?
Взять любой роман-воспитание XVIII века, который обычно начинается с рождения главного героя, продолжается приключениями, а затем наступает старость - у читателя складывается иллюзия полной жизни. Пушкин же, обрывая свое произведение, странной композицией, бесконечными лирическими отступлениями, составляющими суть романа, показывает, что нет никакой формы, которой можно эту жизнь описать.
Как чрезвычайно трудно попасть в такт этой жизни, также чрезвычайно трудно найти литературную форму для того, что вы хотите сказать. Возможно, именно поэтому он и пишет роман в стихах, постоянно уходя от ответственности и не ставя точку. Поэт как бы говорит: вы можете поставить точку, но это не будет завершением. Или можно не ставить точку, а жизнь в этот момент закончится. В этом и заключается истинный трагизм романа и его очень искреннее, глубоко трагическое переживание жизни.
Всевышний Аллах сказал (смысл):
Как было бы хорошо, если бы эти аяты были у нас перед глазами, когда с нами происходит то, что нам не нравится. Истина в том, что мы не знаем, в чём для нас благо – в том, что нам нравится или, напротив, в том, что нас печалит. Не смотрите лишь на внешнюю сторону происходящего. Вспоминайте, что во всём есть мудрость Всевышнего, которая скрыта от нас.
Доказательством этому служит история, упомянутая в Коране. Эта история пророков Мусы (мир ему) и Хизри (мир ему). Вспомните, что Хизри (мир ему) совершал такие поступки, которые не мог принять Муса (мир ему). Позднее выяснилась истинная сторона поступков Хизри (мир ему), и то, что он делал, было правильным и верным. Также и в нашей жизни. Иногда с нами происходит нечто неприятное для нас. Но Всевышний сведущ, что лучше для нас и Он обладатель мудрости. Вспомните, сколько раз в вашей жизни неприятные ситуации оборачивались к лучшему.
Пророка Юсуфа (мир ему) бросили в колодец, но это только лишь возвысило Юсуфа (мир ему), и стал он правителем Египта. Воле Всевышнего подчиняется всё сущее. И говорит истину Аллах ﷻ :
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرَاً كَثِيرَاً
(смысл): «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас» (сура «аль-Бакара», аят 216).
Ничто не происходит случайно, как утверждают невежественные люди, а происходит по воле, мудрости и предопределению Всевышнего, как говорится в Коране:
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
(смысл): «Воистину, Мы сотворили каждую вещь по предопределению» (сура «альт-Камар», аят 49).
В каждом событии есть своя мудрость, но она скрыта от людей. Не следует также забывать, что земная жизнь – место, где человек проходит через испытания. Всевышний так говорит об этом:
وَنَبْلُوكُمْ باِلشَّرِّ وَالخَيْرِ فِتْنَةً وَإلَينَا تُرجَعُونَ
(смысл): «Мы подвергаем вас искушению добром и злом ради испытания» (сура «аль-Анбия», аят 35).
Испытанием могут стать болезнь или здоровье, богатство или бедность, что бы ни было в этой жизни – приятное или неприятное – всё это испытание для людей. Имущество и бедность не являются признаком довольства или гнева Всевышнего. Аллах ﷻ одаривает богатством и хорошего, и плохого, и наоборот – бедным может быть и праведник, и грешник. Беднота или богатство – это экзамен для человека.
فمن صبر على الضَرَّاء وشكر عند السرَّاء،فهو من المفلحين
Смысл: «Кто проявит терпение в трудности и будет благодарным в радости – тот истинно счастливый и имеющий успех» .

Абдуллах ибн Абджар сказал: «Человек испытывается здоровьем, чтобы увидеть, будет ли он благодарить. И он испытывается трудностями, чтобы выяснить, станет ли он проявлять терпение» . И, как бы ни было велико то, что постигнет его в этом мире, оно незначительно в сравнении с тем, что соответствует ему из наказания в мире ином.
От Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда Аллах ﷻ желает блага для своего раба, Он наказывает Его уже в этом мире. Если же Он желает для Своего раба плохое, то откладывает наказание до Судного дня» (см. ат-Тирмизи, № 2396, Ибн Маджах, № 4031).
Верующий же должен быть уверенным в мудрости Всевышнего и уповать на Его милость, ибо поистине:
وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(смысл): «Аллах обещает вам прощение и милость. Аллах – обладающий милостью, всезнающий» (сура «аль-Бакара», аят 268).
Онегин и Зарецкий – оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать свое раздраженное презрение к истории, в которую он попал против собственной воли и в серьезность которой все еще не верит, а Зарецкий потому, что видит в дуэли забавную, хотя порой и кровавую историю, предмет сплетен и розыгрышей…
В «Евгении Онегине» Зарецкий был единственным распорядителем дуэли, потому что «в дуэлях классик и педант», он вел дело с большими упущениями, сознательно игнорируя все, что могло устранить кровавый исход. Еще при первом посещении Онегина, при передаче картеля, он обязан был обсудить возможности примирения. Перед началом поединка попытка окончить дело миром также входила в прямые его обязанности, тем более что кровной обиды нанесено не было, и всем, кроме Ленского, было ясно, что дело заключается в недоразумении. Зарецкий мог остановить дуэль и в другой момент: появление Онегина со слугой вместо секунданта было ему прямым оскорблением (секунданты, как и противники, должны быть социально равными), а одновременно и грубым нарушением правил, так как секунданты должны были встретиться накануне без противников и составить правила поединка.
Зарецкий имел все основания не допустить кровавого исхода, объявив Онегина неявившимся. «Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока явившийся первый имеет право покинуть место поединка и его секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника». Онегин опоздал более чем на час.
Онегин и Зарецкий – оба нарушают правила дуэли. Первый, чтобы продемонстрировать свое раздраженное презрение к истории, в которую он попал против собственной воли и в серьезность которой все еще не верит, а Зарецкий потому, что видит в дуэли забавную, хотя порой и кровавую историю, предмет сплетен и розыгрышей… Зарецкий вел себя не только не как сторонник строгих правил искусства дуэли, а как лицо, заинтересованное в максимально скандальном и кровавом исходе поединка.
Поведение Онегина на дуэли неопровержимо свидетельствует, что автор хотел сделать его убийцей поневоле. Для людей, знакомых с дуэлью не понаслышке, было очевидно, что тот, кто желает безусловной смерти противника, не стреляет сходу, с дальней дистанции и под отвлекающим внимание дулом чужого пистолета, а, идя на риск, дает по себе выстрелить, требует противника к барьеру и с короткой дистанции расстреливает его как неподвижную мишень.
Поэт любил Ленского и в прекрасных строфах оплакал его падение:
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять должна. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.
В Ленском было много хорошего, что он был молод и вовремя для своей репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить – значит развиваться и идти вперед. Он был романтик.
Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются устарелыми мистиками и мечтателями, которые большие враги прогресса, нежели люди просто.
До самого конца XVIII века в России еще не стрелялись, но рубились и кололись. Дуэль на шпагах или саблях куда меньше угрожала жизни противников, чем обмен пистолетными выстрелами. («Паршивая дуэль на саблях», - писал Пушкин.)
В «Капитанской дочке» поединок изображен сугубо иронически. Ирония начинается с княжнинского эпиграфа к главе:
Ин изволь и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!
Хотя Гринев дерется за честь дамы, а Швабрин и в самом деле заслуживает наказания, но дуэльная ситуация выглядит донельзя забавно: «Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. “А, Петр Андреич! – сказал он, увидя меня. – Добро пожаловать! Как это вас Бог принес? по какому делу, смею спросить?” Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свой единственный глаз. “Вы изволите говорить, - сказал он мне, - что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить”. – “Точно так”. – “Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли? Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье – и разойдитесь; а мы уж вас помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: Бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?”».
И эта сцена «переговоров с секундантом», и все дальнейшее выглядит как пародия на дуэльный сюжет и на саму идею дуэли. Это, однако же, совсем не так. Пушкин, с его удивительным чутьем на исторический колорит и вниманием к быту, представил здесь столкновение двух эпох. Героическое отношение Гринева к поединку кажется смешным потому, что оно сталкивается с представлениями людей, выросших в другие времена, не воспринимающих дуэльную идею как необходимый атрибут дворянского жизненного стиля. Она кажется им блажью. Иван Игнатьич подходит к дуэли с позиции здравого смысла. А с позиции бытового здравого смысла дуэль, не имеющая оттенка судебного поединка, а призванная только потрафить самолюбию дуэлянтов, несомненно, абсурдна.
«Да зачем же мне тут быть свидетелем? – вопрошает Иван Игнатьич. – С какой стати? Люди дерутся; что за невидальщина, смею спросить? Слава Богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».
Для старого офицера поединок ничем не отличается от парного боя во время войны. Только он бессмыслен и неправеден, ибо дерутся свои.
«Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять». Он и не мог понять смысла дуэли, ибо она не входила в систему его представлений о нормах воинской жизни.
И он ей сердце волновал!
Об нём она во мраке ночи,
Пока Морфей не прилетит,
Бывало, девственно грустит ,
К луне подъемлет томны очи ,
Мечтая с ним когда-нибудь
Свершить смиренный жизни путь !
Вот построчное отражение его жизни по числам и месяцам:
16.2 – Пушкин (девственно грустит) - был у цыган по воспоминаниям цыганки Тани: « Сел и задумался , да так, будто тяжко, голову на руку опер , глядит на меня: "Спой мне, говорит, Таня… Пою я эту песню… Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин . рукой за голову схватился, как ребенок плачет ... »
17.2 – мальчишник у Пушкина (К луне подъемлет томны очи ) , взывая «Что день грядущий мне готовит?»
18.2 – Наталья Гончарова «мечтая с ним свершить смиренный жизни путь», шла под венец с признанным стихотворцем.
А.Я. Булгаков писал брату: «В городе опять начали поговаривать, что Пушкина свадьба расходится; это скоро должно открыться: середа (18 февраля) последний день, в который можно венчать» . Итак, Пушкин нехотя, но со смирением венчается, ибо даётся «каждому по его силе» .
И сокращая сопоставление изложений, завершаем следующим событием за 2 недели от 25.12.1831 г.:
Евангелие от Матфея гл.25:38 гласит: «когда мы видели Тебя странником , и приняли? или нагим, и одели ?», а в «Евгении Онегине» гл.8-LI:
Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече ,
Как Сади некогда сказал .
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый Идеал ...
О много, много Рок отъял !
Блажен, кто праздник Жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочёл её романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим .
27.12.1831 г – возвращение Пушкина из Москвы в Петербург (Иных уж нет, а те далече ), а 31.12.31 г. - Пушкин с женой встречали Новый 1832 год в семье Карамзиных (милый Идеал ).
1.1.32 г. - с этого дня (много Рок отъял ) Пушкин снова, спустя 7 лет после отставки, сталчислиться чиновником Министерства иностранных дел.
8.1.32 г. - в Петербург Пушкину была привезена из Михайловского его библиотека «на двенадцати подводах везли; двадцать четыре ящика было; тут и книги его, и бумаги были».
Пушкин не завершил роман, чтобы не описать своей кончины, о которой сказано в Евангелие от Матфея гл.27:50 от 29.1.1837 г.:« Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух».
Однако Пушкин отразил своё убийство и смерть в 1837 году строфами всех глав под одним номером XXXVII (37 ):
I–XXXVII.
Нет: рано чувства в нём остыли;
Ему наскучил света шум;
……………………………
Но разлюбил он, наконец,
И брань, и саблю, и свинец .
Своим пенатам возвращённый,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный ,
…………………………….
…тут же начертал
Ему надгробный мадригал .
Татьяна пред окном стояла,
На стёкла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е .
А что ж Онегин?..
………………………………..
И одевался... (Только вряд
Носили ль вы такой наряд) 346 .
Твоя Киприда, твой Зевес,
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным.
Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рождён ;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла . Поэт а,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень .
Его страдальческая тень ,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времён,
Благословение племён.
Нет, не пошла Москва мо я
К нему с повинной головою.
Не праздник , не приёмный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он .
И постепенно в усыпленье
И чувств и дум впадает он,
А перед ним Воображенье
Свой пёстрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге ,
Как-будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит ,
То видит он врагов забвенных ,
Клеветников, и трусов злых ,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных ,
То сельский дом - и у окна
Сидит она... и всё она !
И после расставания с земной жизнью Пророка, для него и людей осталась одна Божья матерь, Русская Наука, которая спасёт мир.
28 ДНЕЙ «АПОКАЛИПСИСА» 347
И НАША «ПЕРЕСТРОЙКА»
В ноябре 1830 г. Александр Сергеевич писал издателю М.П. Погодину из Болдина в Москву при посылке своего «Героя»: «Посылаю вам из моего Пафмоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите.. .» 348
Патмос - остров, где Иоанн написал своё «Откровение» гл.1:9: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Спасите ля, был на острове, называемом Патмос , за слово Божие и за свидетельство Иисуса Спасителя» .
Так Пушкин называл своё родовое село Михайловское. Надо заметить, что несколько строк стихотворения «Герой» стали ключом для изследователя Морозова в 1910 г. в раскрытии, так называемой 10-й главы «Евгения Онегина». Героя Пушкин изобразил вливающим надежду в людей почти обречённых, рискуя сам «заразиться и умереть» от соблазнов «мерзости запустения». Само собой вспоминается изложение нелёгкого «Пира во время Чумы», где «новое племя » любит ушедшего в мир иной Джаксона (Пушкина), и пьёт «вино нового завета» , как будто тот был с ними за столом « живой» . Потому мы – «новое племя » - последователи Пушкина и живы, и не подвержены заразе века потому, что с нами «живой» Пушкин. Последователи его также вселяют ныне в людей надежду о расцвете Руси и гонят уныние и равнодушие.
Услышав «вещий глас» Пророка, мы совсем иначе воспримем строки из стихотворения Пушкина «Тень Фонвизина» 349 1815 года:
И спотыкнулся мой Державин
АПОКАЛИПСИС преложить...
Строки сказали нам о начале переложения «Откровения» в образы «Руслана и Людмилы». Не случайно Пушкин писал в «Домике в Коломне»: 350
Как весело стихи свои вести
Под цифрами , в порядке , строй за строем,
Не позволять им в сторону брести…
Ведь вся Библия пронумерована, а у Пушкина под номерами строф написан только «Евгений Онегин». Митрополит Анастасий прозорливо написал: « Пушкин был мудрецом , постигшим тайны жизни путём интуиции и воплощавшим свои откровения в образном поэтическом образце».
«Откровение Иоанна Богослова» открывает свой потайной смысл раз в 628 лет лишь одному посвящённому, который вдруг видит в 406 стихах образы «перестройки» той страны, которая становится ведущей в мире. В данном случае – с помощью Пушкинской Науки мне стало ясно видно, что в «Откровении» описываются события в России за 31 год - с февраля 1969 по февраль 2000 г. 351 с ритмом 28 дней в стихе под одним номером.
«Откровение» начинается 29.1/10.02.1969 г. - в день 132-й годовщины ухода в безсмертие Богоносца - А.С. Пушкина словами: « Откровение от Иисуса Спасителя , которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное чрез Ангела 352 своего рабу Своему Иоанну ».
А через 10 лет 29.1.1979 г. «Откровение» 8:1 «И когда Он снял 7-ю печать , сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса».
Именно в этот день закончилось 150-летнее тайное хранение научной рукописи и всего русского сакрального наследия Пушкина с 1929 года.Именно, 29 января 1979 г., по завещанию А.С. Пушкина в г. Таганроге И.М. Рыбкин открыл музей, посвящённый хранению научной рукописи Пушкина в своём доме. 29 января - день смерти Пушкина после преднамеренного смертельного выстрела врагом России. Самим открытием музея борьба с тайными и явными врагами Руси Великой была продолжена.
Кроме этого, 29 января 1979 г. началась последняя, 4-я четверть преобразования частного хозяйствования на общественное (социалистическое), и ведомое идеями Ленина, начатое в марта 1920 г. после изгнания иностранцев из Крыма. В этом круге (4-й четверти круга) должен был подготовлен новый род правления, т.к. с 14.9.1998 г. мы должны были начать расставаться с частным образом правления и знакомиться с наукой Пушкина, которой в начале круга (в зеркальном отражении) преобразования владели Ленин и Сталин. К тому же накануне в декабре 1978 г. отмечалось 100-летие Иосифа Сталина, великого посвящённого, русского волхва и вождя русского народа.
С 15.4.1985 г.«Откровение» 13:1,3 гласило: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами : на рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю».
В это время на апрельском Пленуме ЦК КПСС состоялся доклад Горбачева о подготовке к ХХVII съезду КПСС. В образе зверя здесь выступает организация, а «7 голов» её – это 7 руководителей партии от создания до конца:Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко и Горбачев. Причем, родимое пятно на голове его подобно исцелённой ране. Пятно на лбу Горбачева напомнило народу пословицу: «Бог шельму метит » и прозвали его «меченым ». «Десять рогов с диадемами» - это 10 ГКЧПистов, ставших в августе 1991 г. «царями на один час».
Так же и второго «зверя» Бог пометил, а народ заметил, и назвал «безпалым ». Эти же образы были даны пророком Василием Немчиным.
«1-й зверь» Горбачев принял в ЦК КПССна пост Зав. Отделом строительства«2-го зверя» - Б.Н. Ельцина, бывшего в ту пору секретарём Обкома КПСС в Свердловской (Екатеринбургской) области.
20.1.1986 г.«Откровение» Гл.13:11 словами «И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» говорило о назначении Ельцина кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, избрании народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР. Ельцин родился в 1931 г. - год Барана (он имел два рога ).
С 23.9… 19.11.1991 г. «Откровение» Гл.17:18,18:1 словами: «Жена же, которую ты видел , есть великий город, царствующий над земными царями. После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его » гласило, что русские «жидовствующие», «царствующие над земными царями», значительно потеряв власть над единой КПСС после августовского путча ГКЧП, заставили Россию стать членом Международного валютного фонда, а Ельцина назначили на пост председателя Совета Министров РСФСР после ухода Силаева.
К тому же, 4.10.1991 г. – по прошествии предсказанных 7 лет (день в день) исполнился мой вещий сон, виденный у подножия Эльбруса о том, что, пройдя тьму заблуждений, он придёт к свету нового знания. Я впервые держал в руках таганрогские газеты «Мы и город» с известием, что А.С. Пушкин оставил на 150-летнее хранение на Дону свою научную рукопись с описанием пророчества о возрождении Руси и описанием Законов Вселенной, по которым движется всё в мире.
И последнее, главное - «Ангелом, сходящим с неба» был Пушкин, о котором поведала газета «Аргументы и Факты» [№ 47(580) ноябрь 1991 г. числом 25 миллионов] со статьёй «Пушкин - российский Пророк». В ней сообщалось о тайной Донской Научной рукописи А.С. Пушкина с «полистатическими» матрицами будущего и настоящего России, из которой читатели узнали о ведущей роли России с 1920 года (вместо Европы) на 628 лет, и о начале созидания Золотого Века на Земле с 14 сентября 1998 года.
С 30.5 по 19.9.1994 г.«Откровение» Гл.19:11…14 гласило: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый , и сидящий на нём называется Верный и Истинный , который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный , и на голове Его много диадем; Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме Его Самого; Он был облечён в одежду, обагрённую кровию. Имя Ему: Слово Божие . И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облечённые в виссон белый и чистый».
18.6.1994 г. - на 91-м году жизни ушёл из жизни (вознёсся к небу) хранитель научной рукописи Пушкина, великий русский учёный, математик - Иван Макарович Рыбкин. Он хранил эту рукопись при советской власти и после. Его обращения в ЦК КПСС, Пушкинский дом и др. органы (усиленные «жидовствующими»), вызвали преследование, вымогательство. Для надёжности научная рукопись была разделена членами совета хранилища и находилась в разных городах. Часть рукописей всего русского наследия безвозвратно уничтожена, несколько людей, связанных с хранением, «обагрённые кровью» 353 , погибли. Но «Слово Божие» о кругах природы и общества дошло до своего назначения.
31.7.1994 г. - 40-й день кончины хранителя научной рукописи И.М. Рыбкина в «Руслане и Людмиле» «почила вечным сном» Голова богатыря, под которой хранился меч. Именно в 40-й день, как признаётся православными, душа усопшего возвращается для прощания с близкими ему людьми, а у Пушкина 40-я строка описала переход к «вечному сну» . Дни Головы до последнего дня описаны так, словно голову «внезапно оживили, На миг в ней чувство разбудили, Багровый огнь ещё родился 354 , И в умирающих глазах Последний гнев изобразился. Укор невнятный лепетала... Уже её в тот самый час Кончалось долгое страданье: …смерти содроганье... Она почила вечным сном ». Слова «Откровения» об уходе из жизни Рыбкина определяют его величие: «И на голове Его много диадем», т.е. более «7 пядей во лбу» у хранителя научной рукописи Пушкина. Ученики И.М. Рыбкина – «следовали за Ним на конях белых», оставались верны делу, продолжая изучать те работы, что оставил он, изучая научное наследие А.С. Пушкина и работы самого Рыбкина.
16.9.96 г. «Откровение» 21:5: «И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое . И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны ». В этой волне вышла в свет первая работа В.М. Лобова «Тайна Пиковой дамы ». В ней показано, что здесь Пушкин в скрытом виде отразил Законы Вселенной и само произведение написано по кругу и др. Вышел также сборник «Антология Донской поэзии - Голоса сердец» №3, куда вошло продолжение пушкинского творения «... Для берегов отчизны дальной ... », выполненное пушкинцем Лобовым.
14.10.96 г. «Откровение» 21:6: «И сказал мне: совершилось! Я есмь Алфа и Омега , начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой» . Выступление пушкинцев Лобова и Качура в г. Ставрополе на IV-й Международной конференции «Циклы природы и общества» об успехах Пушкинской науки в разных областях знаний. Распространение брошюры «Тайна Пиковой дамы».
9.12.96 г. «Откровение» 21:8: «Боязливых же неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в озере, горящем огнём и серою; это - смерть вторая». Вышла в свет вторая брошюра Лобова с раскрытием истинного смысла «шутки» Пушкина - «Донжуанский список 1829 года и Донской Архив Пушкина», в которой разбиваются доводы «клеветников России», обвиняющих Пушкина в распутстве, никчёмности, как стихотворца, для России. Но Пушкин был и есть для нас русский пророк и учёный! Тридцать четыре имени в «Списке» означали 34 недели подготовки, отъезда из Москвы для передачи научной рукописи на Дон и возвращения в Москву после путешествия в Турцию, а имена по созвучиям и образам соответствовали тем или иным событиям в жизни Пушкина за эти месяцы и даже одно мужское имя наряду с женскими.
3.2.97 г. «Откровение» 21:10: « И вознёс меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город , святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога»
11.2.97 – в день 160-летия безсмертия А.С. Пушкина состоялось первое выступление в Москве В.М. Лобова на Коллегии Пушкинской Академии с докладом о раскрытии тайн произведений Пушкина и чтение своего продолжения стихотворения Пушкина «Для берегов отчизны дальной», выполненного по Законам Вселенной о движении по кругу и зеркальному отражению. В этот же день получил билет члена Пушкинской Академии. Единомышленники в Москве обещали и помогли в скором времени сделать компьютерный набор «Руслана и Людмилы» А.С. Пушкина для работы над новой книгой, в которой будет открыт истинный смысл «Откровения» Иоанна и согласного с ним эпоса «Руслан и Людмила». Компьютерный набор «Откровения» Иоанна позже помогли сделать соратники из Таганрога. В «Откровении» слова «Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» я понял как «ЕРУСАЛИМ » расположенный по кругу. Тогда слово «ЕРУСлан » движется по часовой стрелке относительно этого круга - мужское направление, а слово «людМИЛА » - против часовой стрелки - женское направление. Это знаковое изображение будет на обложке книги «Пророчества Пушкина».
5.1.98 г. «Откровение» 21:22: «Храма же я не видел в нём; ибо Господь Бог Вседержитель - храм его , и Агнец». Выход в свет книги В.М. Лобова «Пророчества Пушкина. Еруслан и Людмила - Ерусалим ». Мои выступления с докладами в научных и общественных учреждениях Ростова-на-Дону и Москвы.
«Откровение» гл.22:4 показывает наступление коренных преобразований правления с сентября 1998 г. словами: « И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их ». Это правление должно быть по пророчеству Пушкина общинным , по типу местного казачьего самоуправления.
26.04.1999 г. «Откровение» 22:12 словами: « Се, гряду скоро , и возмездие Моё со Мною , чтобы воздать каждому по делам его» говорило о приближении 200-летия Пророка Александра Пушкина и о выпуске 1 мая книги Таганрогского (Качура) и Ростовского-на-Дону (Лобов) обществ «Пушкинская наука» - «Русский пророк Пушкин » 355 .
24.5.1999 г.«Откровение Иоанна» (гл.22:13) показало исключительность русского пророка Пушкина в день его 200-летия словами: «Я есмь - Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний». Вспоминаются слова Гоголя о «единственном и чрезвычайном явлении» Пушкина. Да, за 40 тысяч лет от первого неизвестного русского пророка до Пушкина русский народ ждал своего избавителя от «тьмы предрассуждений» - и пришел Пророк Александр, последний - подобный первому. На Пушкине круг замыкается и начнётся новый круг также с русского народа на 40192 года.
Причём в Псалтыре №99 за 1999 год 356 мысль о пророке Пушкине подтверждается словами: «Псалом хвалебный воскликните Господу, вся Земля! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его … Истина Его из рода в род » . 357
Пушкин принял на себя крест и обязанности Христа, что народ выразил словами: «Здесь все его. И хоть самого его сейчас нетути и он незрим, всё он видит. Теперь все идут к Пушкину, потому что его творения охраняют людей от дурного, очищают душу. Его дом для теперешних людей стал тем, чем раньше был для тогдашних храм» 358 .
Последний стих «Откровения» Гл.22:21 приходится на 3.1.2000 г., в котором сказано:«Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
Начало III тысячелетия – времени, когда проявится истинное лицо Пушкина. В издательстве «Полиграфия», открыт заказ на печать одного тома из многотомной «Истории Пушкина. Круг 25-й. Рисуй Марию нам другую, с другим Пророком на руках». Кроме этого закончилась власть «Ельцина», который передал бразды правления В.В. Путину.
«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
И НАШИ ДНИ
Более 628 лет назад Дмитрий Донской (1363-1389) ждал войны с Мамаем, Литвой, Тверью и др. Накануне междоусобные войны были одним из страшнейших бедствий на Руси. Страна делилась на несколько княжеств, горевших ненавистью друг к другу, и кровавые развязки этой вражды лишали жизней тысячи русских людей. Многие семьи теряли кров. Разумеется, княжеские распри ослабляли Русь изнутри и делали ее крайне уязвимой во внешнеполитическом плане. Начиная с XIV века Московское княжество стало знаком объединения Руси, а Москва - средоточием торговли и просвещённости. В то трудное для Руси время, время тяжелой зависимости от Золотой Орды, княжеских усобиц, началось постепенное собирание отдельных уделов в единое государство. Московское княжество упрочивало свое преобладание. Москва становилась не только главным политическим сердцем, но и основной созидательницей и собирательницей ценностей творений разума.
Как тогда в 1380 г., так и сейчас, нам нужен союз и дружба русских народов.
А.С. Пушкин отметил древнее произведение «Слово о полку Игореве» 359: «Несколько сказок и песен, безпрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и Слово о Полку Игореве возвышается уединённым памятником в пустыне нашей древней словесности ».
Вот несколько строк труда Пушкина «Слово о полку Игореве»: «Песнь о полку Игореве найдена была в библиотеке графа А.Ив. Мусина-Пушкина и издана в 1800 году. Рукопись сгорела в 1812 году. Знатоки, видевшие её, сказывают, что почерк её был полуустав XV века » Карамзин в своей «Истории государства Российского» писал: «Язык наш от 13 до 15 века приобрёл более чистоты и правильности » 360 . Следовательно, почерк с XIII до XV века был похожим с полууставом, на котором было написано «Слово о полку Игореве».
Началом данного изследования «Слова о полку Игореве» на соответствие Законам Вселенной было 17.11.2003 г. При изследовании надо было найти времена с ритмом в 78,5 лет (64 круга по 64 недели или 28672 дня) в обратном счёте от дня раскрытия незримой «полистатической» матрицы по Пушкину до времени вблизи с битвой князя Игоря с половцами. В итоге получился такой ряд.