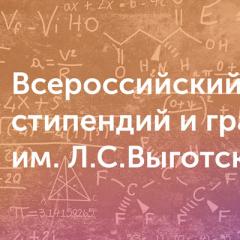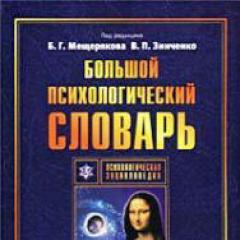Сколько было лет колчаку когда его расстреляли. За что большевики расстреляли колчака
Как убили Колчака (несколько вариантов интерпретации событий)
"Мы вошли в камеру к Колчаку и застали его одетым - в шубе и шапке, - пишет И.Н. Бурсак (Иван Николаевич Бурсак, участник Февральской и Октябрьской революций в Петрограде, в Красной Армии находился с начала 1918 года. В 1920 году он являлся комендантом г. Иркутска и так описывает события. 3 февраля Чрезвычайная следственная комиссия представила ревкому список на 18 человек, содержавшихся в тюрьме. В том списке значились А.Колчак, В. Пепеляев и другие наиболее отличившиеся зверствами против рабочих и крестьян главари белогвардейщины. Председатель Чрезвычайной следственной комиссии С.Чудновский и комендант Иркутска И.Бурсак настаивали на расстреле всех 18 белобандитов. Однако военно-революционный комитет с ними не согласился и вынес приговор о расстреле только Колчака и Пепеляева. ("Известия Иркутского Военно-революционного комитета". 8 февраля 1920г.).
- Было такое впечатление, что он чего-то ожидал. Чудновский зачитал ему постановление ревкома. Колчак воскликнул:
- Как! Без суда?
Чудновский ответил:
- Да, адмирал, также как вы и ваши подручные расстреливали тысячи наших товарищей.
Поднявшись на второй этаж, мы вошли в камеру к Пепеляеву. Этот тоже был одет. Когда Чудновский зачитал ему постановление ревкома, Пепеляев упал на колени и, валяясь в ногах, умолял, чтобы его не расстреливали. Он уверял, что вместе со своим братом, генералом Пепеляевым, давно решил восстать против Колчака и перейти на сторону Красной Армии. Я приказал ему встать и сказал: - Умереть достойно не можете...
Снова спустились в камеру Колчака, забрали его и пошли в контору. Формальности закончены.
К 4 часам утра мы прибыли на берег реки Ушаковки, притока Ангары. Колчак все время вел себя спокойно, а Пепеляев - эта огромная туша - как в лихорадке.
Полнолуние, светлая морозная ночь. Колчак и Пепеляев стоят на бугорке. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский шепотом говорит мне:
- Пора.
Я даю команду:
- Взвод, по врагам революции - пли!
Оба падают. Кладем трупы на сани-розвальни, подвозим к реке и спускаем в прорубь. Так "верховный правитель всея Руси" адмирал Колчак уходит в свое последнее плавание...".
("Разгром Колчака", военное издательство Министерства обороны СССР, М., 1969, стр.279-280, тираж 50 000 экз.).
Где убили адмирала Колчака
и куда делся золотой запас России
Существует устоявшаяся версия, что Колчак был расстрелян на берегу Ушаковки, неподалеку от Знаменского монастыря. Именно там сейчас стоит крест, установленный иркутскими казаками.
Однако факты, сохранившиеся в спецфондах КГБ, свидетельствуют о том, что Верховного правителя убили прямо в тюрьме, в предместье Рабочем.
Геннадий Белоусов, ветеран службы Госбезопасности, занимался историей этого вопроса и нашел архивные материалы.
В 1920 году при Временном совете управления Прибайкалья была создана служба безопасности, во главе которой стоял некто Калашников.
Служба начала свою деятельность с мероприятий по задержанию колчаковских и сычовских карателей, участвовавших в зверской расправе над 31 заключенными на Байкале, на ледоколе "Ангара".
Ею было организовано и наблюдение за передвижением эшелона, в котором находился Колчак. Сопровождавшие его чехи по прибытии в Иркутск (15 января 1920 г.) передали адмирала, руководителей колчаковского совета министров и генералитета сотрудникам калашниковской контрразведки. Комдив Нестеров и комиссар Мерхалев доставили его со свитой в городскую тюрьму на Ушаковке.
6 февраля 1920 года в связи с подходом к Иркутску дивизии отступавшей колчаковской армии и страхом захвата города и освобождения Колчака конвойская команда службы безопасности расстреляла Колчака и часть его правительства и генералитета прямо в тюрьме.
Геннадию Белоусову лично приходилось слышать от родственников участников карательной команды (в частности, от Вагановой Марии), что Колчака и его генералитет на берег Ушаковки не выводили - боялись захвата. Адмирала со свитой расстреляли в подвале тюрьмы, а затем трупы опустили под лед.
Сохранилась легенда о том, что перед смертью, выкурив последнюю папиросу, адмирал бросил свой золотой портсигар расстреливавшим его красноармейцам: "Пользуйтесь, ребята!"
Несмотря на то что Колчак владел 500-тонным золотым запасом России, и вполне мог купить себе и жизнь, и свободу, он не воспользовался деньгами Родины по причине исключительной честности.
Адмирал вез золотой запас в спецэшелоне из 18 вагонов в 5143 ящиках и 1678 мешках. Все эти сокровища вместе с верховным правителем сняли с эшелона в Иркутске, а потом под усиленной охраной сотрудников особого отделка 5-й армии переправили в Москву, где его принял Ленин.
Телеграмма: Ленин - Склянскому:
"Пошлите Смирнову (РВС-5) шифровку: "Не распространяйте никаких вестей о Колчаке. Не печатайте ровно ничего. А после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске".
Подпись: "Ленин" (шифром). "Беретесь ли сделать архинадежно?"
Расстрел А.В.Колчака
7 февраля около 5 часов утра адмирал Колчак и премьер-министр Пепеляев были выведены из тюрьмы на окраину города и расстреляны. Существуют различные рассказы о последних минутах адмирала Колчака; все они свидетельствуют, что он умер так же смело и честно, как всегда жил.
Решение о бессудной казни принял Иркутский ревком. Председателем Иркутского ревкома в то время был Янкель Шумятский. Кроме убийство А. В. Колчака санкционировали комендант Иркутска Иван Бурсак и член Военкома Лазарь Левинсон. В качестве палача выступил Самуил Чудновский. В газете «Советская Сибирь» был напечатан следующий рассказ палача, руководившего убийством А.В. Колчака:
«В начале февраля 1920 года, когда Иркутску грозило наступление белогвардейцев, я сообщил председателю революционного комитета Ширенкову, что, по моему мнению, необходимо без суда убить Колчака и двадцать других белых лидеров, которые попали в наши руки. Мое предложение было принято, и рано утром 5 февраля я поехал в тюрьму, чтобы привести в исполнение волю революционного комитета. Удостоверившись, что караул состоит из верных и надежных товарищей, я вошел в тюрьму и был проведен в камеру Колчака. Адмирал не спал и был одет в меховое пальто и шапку. Я прочитал ему решение революционного комитета и приказал моим людям надеть ему ручные кандалы. «Таким образом, надо мной не будет суда?», - спросил Колчак. Должен сознаться, что этот вопрос застал меня врасплох, но я не ответил и приказал моим людям вывести Колчака. На вопрос, имеет ли он какую-либо последнюю просьбу, он ответил: «Передайте моей жене, которая живет в Париже, что, умирая, я благословляю моего сына». Я (Чудновский) ответил: «Если не забуду, то постараюсь исполнить Вашу просьбу».
Как только я оставил Колчака, один из часовых позвал меня назад и спросил, может ли он позволить заключенному выкурить последнюю папироску. Я разрешил, через несколько минут бледный, возбужденный часовой выбежал в коридор и сказал мне, что Колчак пытался отравиться, приняв капсулу, которая была у него завязана в носовой платок.
Колчак и Пепеляев были выведены на холм на окраине города, их сопровождал священник, они громко молились.
Я поставил их обоих на вершину холма. Колчак, стройный, гладко выбритый, имел вид англичанина. Пепеляев, короткий, тучный, очень бледный, с закрытыми глазами, имел вид трупа.
Наши товарищи выпустили первый залп и затем для верности второй - все было кончено».
Контр-адмирал М.И. Смирнов. Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Издание Военно-морского союза (От Военно-морского союза). Опубликовано: Париж, 1930. Здесь цитируется по кн.: Окрест Колчака: документы и материалы. Составитель доктор исторических наук, профессор А.В. Квакин. М., 2007. С. 175-176.
Расстрел Колчака: свидетельство очевидца
В редакцию обратился Владимир Зенченко, который долгое время жил по соседству с одним из участников казни адмирала
После серии публикаций о памятнике адмиралу Колчаку журналисты "СМ Номер один" потеряли покой. Редакция каждый день получает по несколько писем, в которых читатели высказывают свое мнение об адмирале. Постоянно звонят читатели и делятся своими мыслями о проекте памятника. А несколько дней назад к нам обратился Владимир Петрович Зенченко. Оказалось, что он лично был знаком в одним из семи железнодорожных слесарей, которые расстреливали Александра Васильевича. Маленьким мальчиком он не меньше десяти раз слушал рассказ, как казнили адмирала.
Колчака высадили из поезда, перевели по льду через Ангару. На правом берегу реки, возле Курбатовских бань, адмирала ждал грузовик. На нем арестованного довезли до тюрьмы, возле которой и расстреляли. Подо льдом тело вынесло в Ангару, и нет никаких сведений, что его кто-то нашел. Прямоугольниками с точками Владимир Зинченко обозначил места, где, по его мнению, должен стоять памятник.
Убийца Колчака рассказывал о казни только высокопоставленным коммунистам
- Для меня Колчак - образец высоконравственного человека, - говорит Владимир Петрович. - То, что он сделал для России, трудно переоценить. Люди должны знать о нем, должны помнить таких, как он. Я настоящий коммунист и до сих пор состою в партии, поэтому меня трудно заподозрить в необъективности.
Мой отец был из слесарей. Работал на Иннокентьевской станции паровозного депо в Иркутске II. Он всегда поддерживал таких же рабочих, как сам. Когда отца назначили руководителем фабрики в Усолье-Сибирском, где делали фанеру для самолетов, он разрешил в одном из домиков во дворе жить чернорабочему Солуянову. К сожалению, уже не помню, как его зовут. Зато хорошо помню имена его трех сыновей, с ними мы играли. Так вот оказалось, что этот Солуянов был одним из семи расстреливавших Колчака в 1920 году.
К нам домой постоянно приезжали высокие партийные работники из Иркутска и Москвы. У них всегда была одна просьба к отцу - позвать Солуянова, чтобы тот рассказал, как на самом деле был расстрелян Колчак. Я был совсем мальчишкой, сидел на диване и чуть дыша слушал один тот же рассказ Солуянова. Партийные работники сидели за большим столом, пили чай. Солуянову же ставили табуретку около двери. Он почему-то каждый раз садился на порог.
Перед смертью Колчак долго смотрел на Полярную звезду
По его словам, охрану в тюрьме, где сидел Колчак, сменили за день до его расстрела. Дело было рано утром. В камеру к Колчаку пришли ровно в четыре часа и сказали, что есть постановление местного революционного комитета о том, чтобы его расстрелять. Он спокойно спросил: "Что, без суда?" Ему ответили, что без суда. Потом оставили адмирала в камере, а сами пошли к председателю его правительства Пепеляеву. Тот, когда узнал о казни, сразу бросился на колени и стал просить прощения, умолять о пощаде.
Сначала вывели из камеры Пепеляева, потом вывели Колчака и повели их на Ушаковку. В пятидесяти метрах от тюрьмы была прорубь, где обычно полоскали белье. Из семи сопровождавших Колчака только один был с карабином. Он освободил прорубь ото льда. Колчак все время оставался спокойным, не сказал ни одного слова. Его подвели к проруби и предложили встать на колени.
По словам Солуянова, адмирал молча бросил шинель на меху около проруби и выполнил требование. Все это время он смотрел на небо в сторону севера, где ярко горела звезда. Мне кажется, что Колчак смотрел на полярную звезду и думал о чем-то своем. Приговор, конечно, никому не зачитывали. Самый главный у них сказал: "Давай так шлепнем - что церемонию разводить?"
Сначала расстреляли Колчака. К его затылку все семь человек приставили револьверы. Солуянов так испугался, что при нажатии на спусковой крючок закрыл глаза. Когда после выстрелов открыл их, то увидел, как шинель уходила под воду. Второго расстреляли немного позже. Потом все вернулись в тюрьму и уже там составили протокол, расписав казнь поминутно.
Протокол составили в пять часов. В нем сказано, что Колчака расстреляли на Ушаковке. Конкретное место не описано. Судя по времени, после того как о расстреле объявили Колчаку и составили протокол, прошел один час, казнь была недалеко от тюрьмы. К тому же потом гражданская жена адмирала писала в своих дневниках, что выстрелы были недалеко от тюрьмы.
Где и когда умер Солуянов, я не знаю. Он любил выпить. Возможно, умер именно от этого своего пристрастия. Те, кто приказывал казнить Колчака, были расстреляны в 1937-1938 годах. О причинах быстрой расправы над Колчаком теперь можно только догадываться. В архивах об этом ничего не говорится. Постановление о расстреле адмирала вынес Иркутский политцентр, который состоял из эсеров и меньшевиков. В феврале к городу стремительно продвигалась 30-я дивизия Красной армии. Возможно, чтобы сохранить себе жизнь и показать, что они не с Колчаком, члены политцентра вынесли свое решение. Возможно, боялись, что Колчака освободят остатки дивизии Каппеля, которые вели бои недалеко от Иркутска.
Колчак дорожил жизнью каждого человека
А почему вы считаете Колчака высоконравственным человеком?
Об этом говорит вся его жизнь. Да и то, как он вел себя в последние дни своей жизни. Поезд Колчака вместе с золотым запасом России сопровождали чехи, которые стремились на Дальний Восток, чтобы морем попасть на родину. Их встретил отряд черемховских рабочих. Они предупредили, что если чехи не отдадут Колчака, то будут взорваны три моста. А это означало, что домой они уже никогда не попадут. После этого большевикам никто не мешал арестовывать адмирала. Как бы повел себя обычный человек? Наверное, убежал бы. А Колчак приказом передал власть Деникину и велел все золото в целости и сохранности отдать большевикам. Золотой запас России к Колчаку попал, когда его войска заняли Казань. Золото готовили к погрузке на баржи для отправки в Астрахань. Туда, где действовали интервенты и мародеры. Скорее всего, золото увезли бы из России. А так оно было описано, составлен точный список - всего 28 вагонов. Так вот все эти 28 вагонов были переданы большевикам в Иркутске, о чем есть соответствующие документы.
А то, что он сделал для России как ученый? По сути именно он открыл для мира Северный морской путь. В поисках экспедиции Толля он потерял половину зубов, был обморожен. За свою стойкость был награжден Большой Константиновской медалью, высшей медалью за полярные исследования. О героической доблести Колчака на Русско-японской войне говорили даже сами японцы. Уже после сдачи Порта-Артура Колчак со своей батарей продолжал отстреливаться и только раненым был схвачен в плен. Японцы, чтобы показать свое уважение к его храбрости, построили две шеренги самураев и пронесли через них на носилках Колчака.
Во время Первой мировой войны на Балтийском море его корабль потопил пять немецких кораблей, не потеряв ни одного моряка. На Черном море при нем было потоплено пять подводных лодок Германии, и опять же ни один моряк не погиб. Он очень бережно относился к людям, ценил каждого человека. Когда его офицеры расстреляли трех депутатов Учредительного собрания и Колчак об этом узнал, то приказал отдать виновных под суд.
Памятник должен стоять около Вечного огня
- Теперь самое главное, для чего вам звонил. Сейчас идет поиск места для памятника Колчаку. Я изучал исторические документы, просмотрел все места в Иркутске, которые связаны с Колчаком, и пришел к выводу, что самым хорошим местом для памятника является набережная около Вечного огня. Ведь именно здесь его ждала машина - он от вокзала шел через Ангару с конвоем, когда его переводили в тюрьму. Здесь, можно сказать, Колчак сделал последние свои шаги. С набережной возле Вечного огня можно увидеть Знаменский монастырь, около которого стоит крест Колчаку; вокзал, куда привезли адмирала; место, где стоял состав с золотом. Я хочу, чтобы городские власти подумали над моим предложением.
Досье
Владимир Петрович Зенченко родился 30 октября 1931 года в Усолье-Сибирском. Там же закончил школу. В 1948 году поступил в горный институт (нынче политехнический университет). С 1955-го по 1992 год занимался поисками урановых месторождений. В 1970 году удостоен Ленинской премии за вклад в науку. Именно он открыл и потом дал название Краснокаменскому месторождению урана в Читинской области. На сегодня Краснокаменское месторождение - самое крупное в мире и единственное в России. Сейчас Владимир Петрович на пенсии, дважды женат, вырастил трех сыновей, которые пошли по стопам отца и стали инженерами.
«Частный корреспондент» публикует главу из романа «По царскому счёту, или Уметь профессионально жить и умереть».
Впервые о «белом» адмирале я услышала в нежном возрасте от одного из асов колчаковской контрразведки, служившего ещё в контрразведывательном отделении Главного Штаба старой армии. После поражения остатков Восточной армии в Приморье осенью 1922-го он остался в «совдепии» и последние сорок с лишним лет жил по «легенде».
Фигура Александра Васильевича Колчака не лишена определённого обаяния, острее всего чувствующегося именно сегодня. Случайных блокбастеров не бывает - появление фильма, подобного «Адмиралу», всегда свидетельствует о глубинном социальном запросе на подобный тип героизма. Образ «хорошего человека», волею судьбы и в силу собственного чувства долга оказавшегося на «плохом месте», вынужденного проводить непопулярную политику и совершать действия, идущие вразрез с его личными желаниями и целями, сейчас активно эксплуатируется, в частности, применительно к фигуре нынешнего президента
В своё время, будучи офицером контрразведывательного отдела при Штабе Верховного Главнокомандующего он читал письменный отчёт друга-коллеги о последнем этапе проведённой отделом операции и слышал развёрнутый комментарий, а спустя годы рассказал мне.
На мою долю выпало самое лёгкое: вспомнить подробности и, придав литературную форму, заложить в компьютер.
Они хотели провести показательный судебный процесс - не революционную месть, не большевистский самосуд, не расправу язычника над врагом. Чтобы не повторилось, как с царской семьёй!
Не для своих старались - для Запада. Чтоб, как положено, у приличных людей!
Только не получилось: суда над Колчаком не было. А было исполнение приказа Иркутского Временного Революционного Комитета по согласованию с Москвой - о расстреле.
Нервы у местных сдали: «каппелевцы», назвавшие себя так в память погибшего командира, теперь под командованием генерала Войцеховского, выставившего ультиматум освободить Верховного правителя адмирала Колчака и арестованных с ним, обогнув Байкал, наступали с востока, в Иркутске всячески проявляло себя антибольшевистское подполье.
Тогда и произошёл срыв: решение принял местный большевистский военно-революционный комитет при поддержке командующего 5-й армии Смирнова, и, конечно, с одобрения центрального правительства большевиков.
Не удалось одно - постарались другое: устроить показательный расстрел.
С обвинительным заключением, которое прерогатива только суда.
Пока читали слова , адмирал в шинели с поднятым воротником и на морозе в фуражке, как будто всё происходившее его не касалось, - знал приговор, который не мог быть иным , - разглядывал стоявших в оцеплении.
Когда «красный» начальник закончил чтение вслух и назвал «расстрел», Колчак произнёс «я хочу закурить!» и, не дожидаясь разрешения или отказа командовавшего расстрелом, направился к оцеплению.
Закурить не найдётся? - спросил он у стоявшего неподалёку красноармейца, а тот вместо ответа передал винтовку соседу, полез за пазуху и достал портсигар.
Один из старых портсигаров Колчака .
На помятом, не чищенном серебряном дне лежали несколько самокруток и слева сбоку, убранная под козырёк и прижатая к стенке для надёжной сохранности, как самая большая реликвия, одна папироса.
Можно? - спросил адмирал, показав на неё, и, не выпуская портсигар из рук, красноармеец кивнул головой.
Замёрзшими пальцами с запёкшейся кровью на разбитых костяшках Александр Васильевич попытался достать из-под загнутого козырька спрятавшуюся папиросу, и солдат, чтобы помочь, на шаг вышел из строя. Низко склонившись над портсигаром, адмирал тихо, чтобы услышал только стоявший рядом, выдохнул:
Простите меня и прощайте!
В линии оцепления в шинели красноармейца находился Генштаба полковник, офицер контрразведывательного отдела при Штабе Верховного Главнокомандующего Ромадин.
Его, Колчака, Штабе.
Один из тех офицеров, которые вместе с полковником Алмазовым приехали во Владивосток, а потом сопровождали его, Колчака, при переезде в Омск.
Один из тех, кто организовал и совершил военный переворот в Омске и поставил его, Колчака, Верховным правителем.
Тот самый, кто на станции Верхнеудинск проник в адмиральский вагон, окружённый вооружёнными чехами, и предложил ему операцию по освобождению. Тот, которому он, Колчак, отказал: не хотел многочисленных жертв ради лично себя.
Какой-то бывший по соседству с Ромадиным солдатик поднёс огонь, и, затянувшись, чтобы папироса зажглась, и с благодарностью кивнув ему головой, адмирал спокойно пошёл назад - к расстрелу.
Взглянув на команду, которая ждала приказа, сам встал на нужную точку и рукой отдал команду стоящему впереди оцеплению, чтобы вышли из зоны огня.
Вчерашние крестьяне из центральных губерний, силой согнанные в Красную армию, без слов поняли морской сигнал и сами, не дожидаясь команды своего начальства, раздвинулись в стороны, оставив пространство перед адмиралом.
В лёгком морозном тумане за невысокими деревьями явился другой берег Ангары с куполами Знаменского монастыря справа, а ещё намного правее совсем далеко, где после излучины река выпрямляется, закрытая сейчас от взгляда громадным католическим собором колокольня Харлампиевской церкви: там шестнадцать лет назад он венчался, - и адмирал перекрестился.
Приготовиться! - выкрикнул командовавший расстрелом главный иркутский большевик Ширямов, и за спиной адмирала клацнули затворы.
Повернись лицом! Я тебе говорю! - нервно закричал вчерашний слесарь, который никогда не командовал воинскими подразделениями, а опыта на расстрелах пока не набрался.
Всё впереди!
Так же выпрямившись, как в строю, адмирал спокойно повернулся на 180 градусов и встал, исполнив распоряжение.
По врагу революции огонь! - чуть взвизгнув от напряжения, крикнул Ширямов, и в паузу между последним словом и вылетом пули, Колчак быстро развернулся и оказался спиной к стрелявшим.
От выстрела Верховный правитель России покачнулся, по инерции сделал шаг вперёд и опустился на покрытую снегом, как одеялом, землю.
Словно заснул, обнимая её, родную! Которую так любил, и потому выбрал море. Чтобы при возвращении к ней, земля чувствовала его любовь.
Её предатели выстрелили в спину. Как убийцы.
Затем последовало продолжение: чтение приговора и расстрел Председателя Совета Министров Пепеляева и двух чиновников. Сначала те сильно нервничали, но адмирал показал, как нужно вести себя на расстреле, и они повторили, развернувшись и упав лицами в снег.
Потом расстреляли торговца-китайца, которого обвинили в шпионаже в пользу «белых». Фактически за то, что плохо говорил по-русски.
В китайском языке не существует слова «нет», а потому на все вопросы следователя подозреваемый отвечал «да».
Выполнив своё назначение, начальство в сопровождении расстрельной команды покинуло территорию, оставив на месте оцепление и тела.
Потом, как положено, собрали оружие, и, пока не поступила команда «стройся!», солдаты из оцепления сбились в группы на перекур.
Ромадин достал и открыл портсигар, вроде как, собираясь закурить, а стоявший рядом красноармеец протянул руку, и кивком головы хозяин разрешил взять самокрутку. За этой рукой последовали другие, и через минуту старый колчаковский портсигар был пуст.
Да, уж, эти генералы! - затянувшись дымом от самокрутки, в которой было больше травы, чем табака, сказал один из курильщиков. - Всегда так: последнюю папиросу у солдата заберут!
И остальные товарищи его поддержали.
До расстрела, во время и после Ромадин время от времени ловил на себе взгляды командира роты, стоявшей в оцеплении.
Поздней ночью накануне расстрела к тому в комнату при казарме, преодолев все кордоны, пришли три человека: двое постарше и один - совсем молодой.
Когда разбудили, то, сев на койке, спросонья не мог понять, что происходит, особенно когда сразу потребовали, чтобы сегодня рано утром провёл их на место будущего расстрела, а потому тут же ответил:
Двоих, тех, которые немолодые, знал с детства - выросли на одной улице, а парня видел впервые.
Как вы здесь оказались? - спросил он и не получил ответа.
Откуда знают, что его рота встанет в оцепление, если в курсе только трое, включая его самого, спрашивать даже не стал. Чтобы не казаться придурком.
Всё равно не ответят.
Нам нужно, чтобы ты взял нас на расстрел! - твёрдо повторил друг детства, и командир роты отказал, резко качнув головой.
В этот момент сидевший посерёдке молодой издал резкий звук и тут же получил от соседа локтем тычок в бок - чтобы не храпел.
Во время разговора старших он, туповатый деревенский парень, почти всё время спал и посапывал, периодически падая на кого-то из пришедших с ним и получив пробуждающий лёгкий удар, просыпался, чтобы осоловелыми глазами осмотреться, не понимая, куда попал и что здесь делает, и вызывая пренебрежение к себе у «красного».
Зачем нужно было тащить с собой?!
Начальство, небось, удивится, когда узнает, что твой родной брат служит сотником у генерала Войцеховского! - спокойно высказал предположение другой бывший соучастник по детским играм.
Интервенты пришли в Сибирь к Колчаку, соблазнённые обещанным им золотым запасом России, захваченным белогвардейцами, обещанными территориальными уступками, фактически разделом страны, бесконтрольным доступом к природным богатствам. А когда золотой запас был вывезен за океан, а М.В.Фрунзе нанёс колчаковщине смертельный удар, союзнички бросили адмирала и, захватив всё, что можно было захватить, бежали за океан. Из-за этого и случилась главная трагедия Александра Колчака.
Действительно, брат служил у «белых», и «красный» командир знал это и скрывал.
Он молчал, потому что лучше других понимал, чем ему грозило оповещение начальства, а в том, что эти сделают, не сомневался.
Я не могу взять троих! - сквозь зубы выдавил он из себя.
Двоих! - приказал бывший друг, и командир качнул головой.
Одного! Вот этого! - процедил он и, показав на соню-засоню, у которого от сладкого сна приоткрылся рот, а в углу собралась слюна, со злостью предупредил:
Если хоть что-нибудь попытается сделать , тут же застрелю!
От сильного тычка спавший приоткрыл коровьи глаза и, глянув на сидевшего напротив «красного», но, обращаясь ко всем, заспанным голосом спросил:
Ну, всё порешили?
Через два часа, … чуть пораньше, до подъёма, … приходи сюда - караульному скажешь: Степашин из 9-й роты отправил ко мне… Форму дам сейчас - приказано в шинелях: чтобы все выглядели одинаково…
Конечно, полушубки у всех разномастные и без нашивок: поди разберись, кто есть кто!
Запомнишь - «Степашин, 9-я рота»?!
Запомню! - ответил парень. - Я сам - Игнашин… 99-го…
Выглядел немного постарше, но кто его знает?! Во всяком случае, не отличается от служащих под его началом! Не побеги к «белым», то мобилизовали бы «красные».
И на всякий случай командир повторил:
Если что-то замечу, застрелю своими руками!
Очевидно, смертельная угроза подействовала, и парень на минуту проснулся, а потому осмысленно и молча кивнул головой, но тут же снова закрыл глаза и задремал.
В первый и последний раз сделаю! - почти скрежеща от злости зубами, сказал «красный». - А потом хоть убейте!
По рукам! - отозвался друг детства. - Моё слово знаешь!
А всё-таки, как вы сюда прошли? - снова поинтересовался хозяин, и на мгновенье ему показалось, что из-под полуприкрытых век сидевшего напротив сверкнула сталь, а потом понял, что ошибся: когда глаза полностью открылись, на него смотрел самый тупой взгляд, какой в жизни видел, - но взявшимся неизвестно откуда животным чутьём ощутил: если б отказал, то убили бы.
Так же тихо, как и прошли сюда.
Красному командиру ни в тот момент, ни позже как-то не пришло в голову, что участвовал в представлении, достойном великих творцов, потому что оно стало продолжением жизни: по пьесе, сочинённой, конечно, талантливым драматургом, в которой, подобно опытному режиссёру, распределил и срепетировал роли, а потом так же, как профессиональный дирижёр управляет оркестром, давая знак инструменту вступать, через падание и храп руководил обыкновенными казаками-станичниками, не имевшими опыта в переговорах, сидевший прямо напротив сонный придурок.
Конечно, до и после расстрела белогвардейской вражины «красный» командир не знал, что Ромадин ни на минуту не выпускал его из поля зрения: если что-нибудь в действиях того покажется подозрительным, то, подскочив сзади, почти вплотную, нанесёт в определённую точку без замаха короткий закрученный удар по восходящей. Мгновенное кровоизлияние в мозг. А убивать и не стоит: зачем брать грех на душу?! - всё равно не выживет! А если выживет - пусть много и часто благодарит Бога!
Главное, чтобы молчал и не показал на Ромадина!
Преподаватель-японец, один из трёх десятков учителей, которые работали с их группой, очевидно, догадываясь, кто его ученики, не тратил время на восточную философию, а все два года, пока они обучались под его руководством, основное внимание уделял отработке смертельных ударов в точки тела врага, доведя действия учеников до автоматизма.
Он учил их драться одному против нескольких и побеждать. И ещё обучал, как оказать помощь раненному напарнику и привести его в рабочее состояние, чтобы мог передвигаться. Чтобы не оставлять раненого.
Он много чему их научил и готов был заниматься и дальше, даже бесплатно, о чём заявил на экзамене по окончании своего учебного курса представительной комиссии, когда они демонстрировали, чему научились.
Достаточно! У них всегда при себе будет огнестрельное оружие! - ответил зампредседателя комиссии, и японец понял.
Он повернулся к группе и сказал:
Вы - мой лучший ученик!
И, сложив по-японски руки, поклонился им. В ответ они, как один, наклонили головы. В благодарность.
Их преподаватели были разными как по возрасту, так и по специальностям, и никто из них не знал, кого и для чего готовил.
Специалист-токсиколог считал, что читает курс военным фельдшерам, и был удивлён, когда начальство попросило уделять больше внимания приготовлению ядов. Профессор - специалист по радиотехнике, рассказывая о беспроволочном телеграфе и новейших достижениях в своей области, полагал, что преподаёт военным, которые повышают квалификацию в области связи, и удивился малочисленной группе, но потом, очевидно, объяснил себе интеллектуальной ограниченностью военного командования.
Только кадровые военные понимали, кого и чему они учат: стрелять из револьвера из любого положения, попадая точно в «яблочко», или наездничать, применяя джигитовку со стрельбой, - необходимо в первую очередь их же коллегам. Для нападения и для обороны.
После вручения их группе дипломов об окончании Николаевской академии начальник академии на прощание им сказал:
Вы - золотой запас русской армии... Не резерв, а ежедневно сражающийся!
Ромадин любил своё ремесло, и оно ему шло.
Только сейчас он об этом не думал. Как и о том, что сделает после падения «красного» на снег: отбиться от шестерых для него не проблема! Тоже натренировали - пять сокурсников плюс учитель. Если же не удастся уйти, выдернет из металлического цилиндра притёртую пробку и быстро закинет в рот облатку с цианистым калием, - одну из двух, спрятанных там.
Сейчас ни о чём не думал: мозг сам перерабатывал фиксированные глазами, ушами и каждой клеткой ромадинского тела сведения, чтобы потом отдать приказ ремеслу, которое, выбрав оптимальное решение, направляло доведённые до автоматизма действия.
Команда на построение для отвода почему-то задерживалась.
Тела оставались лежать - похоронная команда всё не приступала к обязанностям.
Стоявший с краю группы красноармейцев, Ромадин спиной почувствовал взгляд на себе, но оборачиваться не стал.
Подойди сюда! - позвал кто-то, очевидно, его, но Ромадин не обернулся: мало ли кого зовут!
Нужно помочь! - обратился к нему тот же голос, подойдя ближе и встав прямо перед ним. - Я - начальник похоронной команды, и мне не хватает людей! С твоим командиром договорюсь! А пока хожу, распорядись, чтобы начали выносить тела - возы слева, за деревьями!
Парень производил впечатление шустрого, в отличие от медленно соображающих крестьянских детей, - наверно, помощник приказчика. И в организации дела поможет.
У начпохкома действительно возникли большие сложности: сначала, рано утром, начальство приказало тела расстрелянных отправить под лёд на Ангаре, и выделило людей рубить полыньи, и полыньи подготовили, а часть людей забрали, оставив шесть человек, чтобы утоплять, - больше-то и не требуется!
Перед самым расстрелом начальство передумало, и поступил новый приказ: закопать подальше от города, чтобы никто не знал место, и, в первую очередь, чтобы случайно не всплыли и не возбудили местное население. Только к этому времени все рубщики были уже распределены на другие работы, и копать промёрзшую землю для пяти шестерым будет трудно.
Если б ему дали побольше саней, то стал бы просить ещё копателей, но возов не хватало, а на имеющиеся два вместе с ним и возчиками помещались не больше одиннадцати живых и пять трупов.
Верну прямо в казарму!
Забирай! - с облегчением, что избавился от навязанного: пусть теперь за его действия отвечает другой - сам захотел! - ответил «начальник» Ромадина и в придачу, чтобы не выглядело странным, что отдаёт лишь одного, предоставил непосредственного подчинённого.
Возвращаясь к своим могильщикам, начпохком увидел, как организованные новым прытким помощником его подчинённые тащат где-то сворованную рогожу, чтобы завёртывать тела.
Быстро обшарив на одежде Колчака карманы в поисках возможных оставленных записей, в одном из них Ромадин обнаружил только немного помятую коробку с единственной папиросой и, смяв её до конца, чтобы раскрошить до табака, тут же вернул на прежнее место.
Глаза бывшего Верховного правителя были полузакрыты, и бывший подчинённый закрыл их полностью. Пока тело не окоченело, Ромадин сложил руки адмирала на груди и увидел, что на него с изумлением смотрит боец похоронной команды.
Так у нас, у русских, принято! - строго ответил Ромадин на молчаливый вопрос и приказал: - Неси рогожу!
Зачем заворачивать?! Рогожа сгодится на другое! - сказал подошедший начпохком своему новому подчинённому.
Да чтобы солома в санях не пропиталась кровью, и запах не привлёк голодных волков! - ответил тот, проявив не городскую смётку, и объяснил начальнику: - Я служил в мясной лавке, и приходилось из деревень перевозить туши...
На самом деле, крови из тел вытекло мало - она замёрзла на выходе, и только отдельные красные пятна на белом, пустые гильзы и затоптанный снег свидетельствовали о расстреле.
Ещё раньше, так, чтобы никто не видел, Ромадин поднял одну гильзу и положил в карман.
Как доказательство.
Тело расстрелянного адмирала он бережно завернул в рогожу и, держа за плечи и поддерживая голову, чтобы не болталась, вместе с красноармейцем, который нёс за ноги, погрузил на сани.
Ромадину и его «товарищу» по роте как чужим пришлось ехать на возу с телами - лицом к ним, а тот от суеверного страха мелко и часто крестился, но, к радости спутника, всю дорогу молчал.
Зимний день короток, а потому смеркаться собиралось рано, и начпохком, к удовольствию Ромадина, отмечавшего время и фиксировавшего путь, после пяти с небольшим вёрст решил дальше не ехать, а закопать где-то поблизости, но в стороне от дороги.
Землю пришлось рубить топорами, и Ромадин начал готовить могилу для Колчака.
Зачем?! Всех в одну! - сказал начпохком, а подчинённый, показав свой опыт в захоронении покойников, ему ответил:
Одна для четырёх - нормально улягутся, а для пятого придётся очень глубоко рубить… И могут пораниться… Легче другую, ближе к поверхности!
Так и захоронили: тело Верховного правителя России адмирала Колчака лежит в отдельной могиле, и среди земли, покрывшей его, есть горсть, которую бросил в могилу офицер контрразведки при Штабе Верховного Главнокомандующего полковник Ромадин.
От своих.
Когда закончили дело , сумерки стали глубокими, а в город въехали почти в темноте.
Как обещано комроты, данных взаймы собирались везти до казармы, но на полпути Ромадин предложил их высадить - недалеко и дойдут пешком. К тому же согреются!
Зайдя за угол ближайшего дома, он вдруг остановился и, помотав головой, сказал спутнику - второму красноармейцу.
Гибель любого человека – это трагедия. Особенно грустно, когда уходит выдающаяся личность. Годы Гражданской войны лишили Россию многих великих военачальников. Но одно дело погибнуть на поле боя и совсем иное быть расстрелянным без суда и следствия, как, например, адмирал Александр Колчак, которому перед смертью даже не зачитали приговор.
Моряк, полярник, адмирал
История не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, если предположить, что в России не случилась Октябрьская революция, об адмирале Колчаке мы бы узнали из энциклопедии великих полярных исследователей. Родился Александр Васильевич Колчак в 1874 году. После окончания Морского кадетского корпуса в 1894 году, его командируют на Тихоокеанский флот. Ненадолго. Спустя четыре года по приглашению известного покорителя Арктики Э.В. Толя Колчак вместе с ним отправляется в арктическую экспедицию. Будущему адмиралу отвели роль гидролога и метеоролога. Во время экспедиции предполагалось обнаружить знаменитую землю Санникова. В том что она существует на самом деле, полярники даже не сомневались. В ходе экспедиции были открыты новые земли. Одному из островов присвоили имя Колчака. Но, к сожалению, Толь из этого путешествия не вернулся. Впоследствии Колчак командовал эсминцем при битве за Порт-Артур. Был в японском плену, по возвращении из которого продолжил полярные исследования. Во период Первой мировой войны Колчак отличился при разминировании минных полей на Балтике и был произведен в чин вице-адмирала. Вскоре его назначили командующим Черноморским флотом.
Верховный правитель России
Когда начались потрясения 1917 года, страна вместо Временного правительства ждала руководства сильного человека, которым, по мнению многих, должен был стать именно Колчак. Испугавшись конкурента, Александр Керенский отправил Колчака в США на два месяца как морского специалиста для консультаций. Когда адмирал уже после прихода к власти большевиков возвращался через Дальний Восток в Россию, он узнал о мирных переговорах новой власти с Германией и расценил данный шаг как предательство. Колчак оставляет службу в России и переходит в английский флот. Однако англичане посчитали, что ему будет лучше возглавить антибольшевистские силы, и отправили его в Россию. В это время большевики терпели поражение за поражением. В Омске было создано Временное сибирское правительство. Колчак становится его военным министром. Но 18 ноября 1918 года это правительство было свергнуто военными, желавшими установить в стране военную диктатуру и поставить во главе А.В. Колчака. Вскоре адмирал был провозглашен Верховным правителем России. По мере успехов армии Колчака, который, освободив Урал, двигался к Волге, его власть признали остальные руководители Белого движения.
Расстрел
К осени 1919 года удача изменила Колчаку. Ему пришлось вести войну на два фронта, что неминуемо вело к поражению. С одной стороны, на него наседали красные, а с другой, путались под ногами партизаны из среды эсеров и различные банды. Во время отступления в Иркутск белочехи, составлявшие костяк армии Колчака, спасая свои жизни, предали Верховного правителя России, отдав его в руки большевиков.
Александра Колчака арестовали 15 января 1920 года в Иркутске. Однако город вскоре окружили верные адмиралу части генерала Сергея Войцеховского, потребовавшие выдать им Колчака. Иркутский Временный революционный комитет запросил Москву на предмет, что делать. Ответ В.И. Ленина был однозначным: никаких сведений о Колчаке не распространять, а когда город займут части Красной Армии телеграфировать, что с адмиралом поступили так-то и так-то из-за опасности белогвардейского мятежа. На деле это означало убийство без суда и следствия. Не теряя времени даром, председатель губчека Чудновский вручил постановление о расправе над адмиралом военному коменданту Иркутска Бурсаку и приказал подготовить расстрельную команду из коммунистов. Когда А.В. Колчаку зачитали постановление о расстреле, он воспринял данное известие спокойно, лишь возмутившись, что его не предали официальному суду. На это Чудновский сказал, что с ним поступят так же, как подручные Колчака поступали с красными командирами. В четыре часа утра 7 февраля 1920 года Колчака вывели на берег реки Ушановки, притока Ангары. Без приговора и предъявления каких-либо обвинений Верховный правитель России был расстрелян, а его труп был брошен в прорубь.
7 января 1920 года была учреждена Чрезвычайная следственная комиссия для сбора обвинительных данных против арестованных членов колчаковского правительства…
Колчака не судили, не существовало и приговора ему: долгое, буксовавшее следствие было оборвано запиской в реввоенсовет 5-й армии: «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием… опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин». 6 февраля 1920 года - во исполнение телеграммы Ленина - было принято постановление Иркутского Военно-революционного комитета о расстреле Колчака и Пепеляева. Вот и весь приговор. По сути повторился сценарий расстрела Царской Семьи в Екатеринбурге в 1918 году: тогда тоже следствие, суд и приговор заменила секретная расстрельная телеграмма Ильича.
Бывший дом купца Батюшкина – элегантное бежево-желтое здание с легкими колоннами, огромными окнами и изящной террасой, глядящей на пологий берег Иртыша, – одна из главных исторических достопримечательностей Омска. Сегодня здесь размещается Центр изучения Гражданской войны в Сибири – единственное в своем роде в России учреждение, сочетающее функции архива, библиотеки, дискуссионного клуба и музея, посвященных .
Место выбрано неслучайно: этот особняк является “свидетелем и участником” фатальных событий отечественной истории – здесь в 1918-1919 гг. располагалась резиденция Верховного правителя России – адмирала Колчака, а затем – Сибирское управление учебных заведений и омская ЧК. Небольшая, но емкая экспозиция рассказывает о Гражданской войне в Сибири объективно – без “заигрывания” со сторонниками красных или апологетами белых. Воссозданы после реставрации интерьеры кабинета Колчака, его приемной и других помещений. Электронные ресурсы и оригиналы документов и новейшие научные и публицистические издания дают возможность ощутить эпоху, а кадры уникальной кинохроники позволяют увидеть Колчака, Жанена и других героев и антигероев этой историко-политической драмы.
18 ноября 1918 года жители Омска увидели расклеенные по всему городу листовки – “Обращение к населению России”, сообщавшее о свержении Всероссийского Временного правительства (Директории) и о том, что Верховным правителем с “диктаторскими полномочиями” стал Александр Колчак. “Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю: я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом, установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему свету”, – с этой присягой Колчак вошел в политическую историю.
“Непроницаемая стена, застилающая свет и правду”
Во время Гражданской войны в Сибири действовало несколько “белых” правительств. Крупнейшее из них – Омское – длительное время вело переговоры с Самарским Комучем (Комитетом Учредительного собрания). Их цель – объединение. В результате в сентябре 1918 года в Уфе сформировалось Временное Всероссийское правительство – Директория. В связи с наступлением Красной Армии месяц спустя Директория переехала в Омск. Однако в результате переворота 17-18 ноября 1918 года, организованного недовольными “разгулом либерализма” политиками и военными, Директория была свергнута, а Колчак провозглашен Верховным правителем России с неограниченными – диктаторскими – полномочиями. Победившим в перевороте борцам с “мягкотелыми либералами-провокаторами” казалось, что они смогли направить историю в нужное им русло. В этих иллюзиях они пребывали около года – пока их самих не свергли еще более жесткие и убежденные сторонники “диктаторских мер” – большевики.
Колчак возглавил правительство, которое функционировало более года на обширной территории России, захватило половину золотого запаса страны и создало реальную угрозу власти большевиков. Верховному правителю России присягнули другие белые силы (хотя далеко не все они эту присягу выполнили – движение осталось раздробленным). Разогнав остатки Учредительного собрания и проэсеровскую Директорию – Временное Всероссийское правительство, Колчак лишил белое движение “демократических гирь”, чем разрушил антибольшевистскую коалицию. В ответ эсеры повернули оружие против него, предпочтя сблизиться с большевиками и меньшевиками. Сделав ставку на военную диктатуру, Колчак и все белое движение обрекли себя на поражение.

Верховный правитель А. В. Колчак среди представителей общественности на банкете в Екатеринбурге, февраль 1919 г.
Программа Верховного правителя предусматривала: уничтожение большевизма, “восстановление законности и правопорядка”; воссоздание русской армии; созыв нового Учредительного собрания для решения вопроса о государственном строе России; продолжение Столыпинской аграрной реформы без сохранения помещичьего землевладения, денационализация промышленности, банков и транспорта, сохранение демократического рабочего законодательства, всемерное развитие производительных сил России; сохранение территориальной целостности и суверенитета России. Однако в условиях Гражданской войны эта программа осталась лишь благим пожеланием.
Колчак допустил стратегический просчет, сделав ставку на западную помощь. Союзники были вовсе не заинтересованы в независимости России и тем более в ее единстве и неделимости. Самым трудным для Верховного правителя оказался национальный вопрос: отстаивая идею единой и неделимой России Колчак оттолкнул от себя всех лидеров государств, образовавшихся после распада империи. Западные же союзники поддержали этот “парад суверенитетов”.
Барон Будберг так описывал адмирала: “Тяжело смотреть на его бесхарактерность и отсутствие у него собственного мнения… По внутренней сущности, по незнанию действительности и по слабости характера он очень напоминает покойного Императора… Страшно становится за будущее, за исход той борьбы, ставкой в которой является спасение родины и вывод ее на новую дорогу… Поразительно, до чего в Омске повторяется в миниатюре Царское Село (в Царском Селе императорская семья пребывала с 1915-го по 1917 г. – Ю.К.): та же слепота вверху, та же непроницаемая кругом стена, застилающая свет и правду, обделывающие свои делишки люди”.

Объявляя большевиков “врагами народа” (и, кстати, подарив им сам этот термин), которых необходимо уничтожить, Колчак и его сподвижники не осознавали, что Ленин, увы, стал харизматическим вождем движения, увлекшего миллионы людей обещаниями ликвидировать бедность, социальное неравенство и построить новое, справедливое общество.
Свои политические убеждения адмирал формулировал внятно: “Будем называть вещи своими именами, как это ни тяжело для нашего отечества: ведь в основе гуманности, пасифизма, братства рас лежит простейшая животная трусость…”. Еще одна оценка: “Что такое демократия? – Это развращенная народная масса, желающая власти. Власть не может принадлежать массам в силу закона глупости числа: каждый практический политический деятель, если он не шарлатан, знает, что решение двух людей всегда хуже одного…” Это сказано в 1919-м.
В Омск к Колчаку, презрев условности устоев, приехала Анна Тимирева. С момента их знакомства, переросшего в роман в письмах, прошло четыре года. У каждого семья, у обоих – сыновья. Она первой призналась ему в любви – с откровенностью пушкинской Татьяны и решительностью своей тезки Карениной. “Я сказала ему, что люблю его”. И он, уже давно и, как ему казалось, безнадежно влюбленный, ответил: “Я не говорил вам, что люблю вас”. – “Нет, это я говорю: я всегда хочу вас видеть, всегда о вас думаю, для меня такая радость видеть вас”. И он, смутившись до спазма в горле: “Я вас больше чем люблю”. Ей – 21 год, ему – 40. И все знали об этой любви, их переписку “изучала” военная цензура… Софья Колчак, жена адмирала, как-то призналась подруге: “Вот увидишь, он разведется со мной и женится на Анне Васильевне”. А Сергей Тимирев, муж Анны и сослуживец Колчака, также зная о романе, дружбы с адмиралом не порвал. В этом “любовном квадрате” не было грязи, ибо не было обмана. Тимирева развелась с мужем в 1918 году и приехала в Омск. Семья Колчака уже давно во Франции. Он на развод так и не решился…

А.В.Колчак и А.В.Тимирева (сидят), генерал Альфред Нокс (стоит сзади Колчака) с группой английских офицеров в районе Омска.
.
Меж двух жесткостей
“Кто жесточе – красные или белые? Вероятно – одинаково. В России очень любят бить – безразлично кого”, – так Максим Горький в “Несвоевременных мыслях” поставил диагноз Гражданской войне и ее идеологам с обеих сторон. Вот и сибирское крестьянство оказалось меж двух огней, меж двух жесткостей. Колчак начал мобилизацию крестьян. Многие из них только что сняли шинели солдат Первой мировой войны, они устали воевать и, по большому счету, были вообще равнодушны к любой власти. Здесь не знали крепостного права. Кто был в окружении Колчака? Офицеры, в большинстве своем относившиеся к крестьянам, как к крепостным, – срабатывала вековая ментальная “инерция”. Значительная часть населения Сибири возненавидела Колчака сильнее, чем большевиков. Партизанское движение возникло стихийно – как реакция на палочную дисциплину белых, безумные репрессии и реквизиции. “Мальчики думают, что из-за того, что они убили и замучили несколько сотен и тысяч большевиков и замордовали некоторое количество комиссаров, то сделали этим великое дело, нанесли большевизму решительный удар и приблизили восстановление старого порядка вещей… мальчики не понимают, что если они без разбора и удержу насильничают, порют, грабят, мучают и убивают, то этим они насаждают такую ненависть к представляемой ими власти, что московские хамодержцы могут только радоваться наличию столь старательных, ценных и благодетельных для них сотрудников”, – горько констатировал военный министр колчаковского правительства барон Алексей Будберг. Большевиков тогда считали меньшим злом. Они выбирали “красных”, поскольку уже хорошо знали “белых”. А потом сопротивляться было уже поздно.

Красные наступали стремительно и неотвратимо. Их Пятая армия под командованием одного из самых успешных полководцев Гражданской войны 26-летнего Михаила Тухачевского с боями приближалась к Омску. “Поручик-командарм” был не только одним из нескольких тысяч царских офицеров, добровольно перешедших на службу к большевикам, – он был в числе ее создателей, летом 1918 года по личному распоряжению Ленина командированный создавать отряды Первой армии Советов. К моменту омского наступления за его спиной был уже несокрушимый успех. “Русская революция дала своих красных маршалов – Ворошилов, Каменев, Егоров, Блюхер, Буденный, Котовский, Гай, но самым талантливым красным полководцем, не знавшим поражений в гражданской войне… оказался Михаил Николаевич Тухачевский. Тухачевский победил белых под Симбирском, спасши Советы в момент смертельной катастрофы, когда в палатах древнего Кремля лежал тяжелораненый Ленин. На Урале он выиграл “советскую Марну” и, отчаянно форсировав Уральский хребет, разбил белые армии адмирала Колчака и чехов на равнинах Сибири”, – такую оценку Тухачевскому дал отнюдь не друг – убежденный антибольшевик, эмигрантский историк белого движения Роман Гуль.
12 ноября 1919 года Верховный правитель и его министры покинули Омск, переместились в Иркутск, ставший – весьма ненадолго – очередной “столицей Белой России”. Два дня спустя Пятая армия заняла Омск. Тухачевский, склонный к внешним эффектам, въехал в город на белом коне. Улица, по которой красноармейцы шли по замершему городу, с тех пор и доныне называется “Красный путь”. (Командарма, ставшего впоследствии маршалом, как “врага народа” расстреляют в 1937-м.)

А.В.Колчак на параде в Омске. 1919г. (Слева стоят в пилотках – чехи? югославы?)
В декабре 1919 года так называемая демократическая оппозиция (включающая в себя практически весь спектр политических сил, противостоявших как Колчаку, так и большевикам) создала в Иркутске Политический центр. В его задачу входило свержение колчаковского режима и переговоры с большевиками о прекращении Гражданской войны и создании в Восточной Сибири “буферного” демократического государства. Политцентр подготовил восстание в Иркутске, продолжавшееся с 24 декабря 1919 года по 5 января 1920 года. 19 января между большевистским Сибревкомом и Политцентром было достигнуто соглашение о создании “буферного” государства. Одним из условий соглашения была передача бывшего Верховного правителя вместе со штабом представителям Советской власти. Тогда же Чехословацкий Национальный Комитет Сибири (орган руководства чехословацкими формированиями – бывшими военнопленными австро-венгерской империи, оставшимися здесь с Первой мировой) выпустил меморандум, обращенный ко всем союзным правительствам, в котором заявил, Чехословацкое войско прекращает оказывать ему поддержку. Чехословаки “выходили из игры”, намереваясь отправиться домой.
Положение Колчака стало безвыходным: он фактически был заложником. 5 января 1920 года представители Антанты выдали письменную инструкцию командующему союзными войсками генералу Морису Жанену провезти Колчака под охраной чешских войск на Дальний Восток, в то место, куда он сам укажет.
Колчак ехал в вагоне, прицепленном к поезду 8-го Чехословацкого полка. На вагоне были подняты английский, французский, американский, японский и чешский флаги, символизировавшие, что адмирал находится под защитой этих государств. 15 января состав прибыл на станцию Иннокентьевскую. Стояли долго: Жанен общался с руководством Политцентра, которое соглашалось пропустить чехословацкий поезд, полный “экспроприированного” имущества и оружия, и идущие за ним груженые “военными трофеями” эшелоны в обмен на Колчака. Переговоры закончились тем, что в вагон вошел помощник чешского коменданта поезда и объявил, что Верховный правитель “передается иркутским властям”. Казалось, Колчак не был даже удивлен, кивнув: “Значит, союзники меня предают”. Адмирала доставили в вокзальную комендатуру, где “предложили” сдать оружие. Передача Верховного правителя эсеро-меньшевистскому Политцентру означала арест.

Вот так. Без суда
Еще 7 января 1920 года Политцентр учредил Чрезвычайную следственную комиссию (ЧСК) для сбора обвинительных данных против арестованных членов колчаковского правительства. А после передачи чехословаками Колчака и его премьер-министра Виктора Пепеляева Политцентру, он поручил ЧСК, в которую входили меньшевики и эсеры, в недельный срок провести судебное расследование. Допросы проводились с чрезвычайной, неожиданной для красных корректностью: следствие вели дипломированные еще в царское время юристы. Но к концу января тон допросов ужесточился. Не зная истинной причины перемены, адмирал связывал ее с переходом председательских функций от меньшевика Попова к большевику Чудновскому. Однако более жесткими допросы стали не только в связи с приходом нового председателя ЧСК: в Иркутске и вокруг него изменилась военно-политическая ситуация. Смена председателя комиссии явилась лишь следствием. К Иркутску подходило несколько красных партизанских отрядов общей численностью 6 тысяч штыков и 800 сабель. Они должны были умножить революционные силы иркутян во главе созданного 19 января Военно-революционного комитета. 21 января коалиционный Политцентр перестал существовать. Пятая армия Тухачевского вошла в город, и 25 января Иркутск стал советским. (Имя Пятой армии с тех пор носит одна из центральных улиц города.)

Колчака не судили, не существовало и приговора ему: долгое, буксовавшее следствие было оборвано запиской в реввоенсовет 5-й армии: “Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием… опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин”.
6 февраля 1920 года – во исполнение телеграммы Ленина – было принято постановление Иркутского Военно-революционного комитета о расстреле Колчака и Пепеляева.
Вот и весь приговор. По сути повторился сценарий расстрела царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году: тогда тоже следствие, суд и приговор заменила секретная расстрельная телеграмма Ильича. (См. “РГ” за 17.07.2013). Большевистская “законность” снова торжествовала.
Когда за адмиралом пришли и объявили, что будет расстрелян, он спросил, кажется, вовсе не удивившись: “Вот так? Без суда?” Перед расстрелом молиться отказался, стоял спокойно, скрестив руки на груди. Пытался успокоить потерявшего самообладание своего премьер-министра Виктора Пепеляева. Попросил передать благословение законной жене, Софье Федоровне, и сыну Ростиславу, за два года до того эмигрировавших во Францию. Об Анне Тимиревой, добровольно пошедшей под арест, чтобы до конца не расставаться с ним, – ни слова. За несколько часов до расстрела Колчак написал Анне Васильевне записку, так до нее и не дошедшую. Десятки лет листок кочевал по папкам следственных дел.
“Дорогая голубка моя, я получил твою записку, спасибо за твою ласку и заботы обо мне… Не беспокойся обо мне. Я чувствую себя лучше, мои простуды проходят. Думаю, что перевод в другую камеру невозможен. Я думаю только о тебе и твоей участи… О себе не беспокоюсь – все известно заранее. За каждым моим шагом следят, и мне очень трудно писать… Пиши мне. Твои записки – единственная радость, какую я могу иметь. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся за меня и сохрани себя… До свидания, целую твои руки”. Свидания не было. Не разрешили.

Тела Колчака и Пепеляева после расстрела погрузили на сани, увезли на реку Ушаковку и сбросили в прорубь. Официальное сообщение о расстреле Колчака срочной телеграммой было передано в Москву.
“Прошу чрезвычайную следственную комиссию мне сообщить, где и в силу какого приговора был расстрелян адмирал Колчак и будет ли мне, как самому ему близкому человеку, выдано его тело для предания земле по обрядам православной церкви. Анна Тимирева”. Резолюция на письме: “Ответить, что тело Колчака погребено и никому не будет выдано”.

Тимиреву после расстрела Колчака освободили – ненадолго. Уже в июне 1920-го ее отправили “сроком на два года без права применения к ней амнистии в Омский концентрационный лагерь принудительных работ”.
Снова выпустили, – и опять не надолго. “За контрреволюционную деятельность, выразившуюся в проявлении среди своего окружения злобных и враждебных выпадов против Советской власти… арестована бывшая куртизанка – жена Колчака… Тимирева Анна Васильевна… Обвиняется в том, что, будучи враждебно настроенной к Советской власти, в прошлом являлась женой Колчака, находилась весь период активной борьбы Колчака против Советской власти при последнем… до его расстрела… Не разделяя политики Соввласти по отдельным вопросам, проявляла свою враждебность и озлобленность по отношению к существующему строю, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58, п. 10 УК.”. Срок – пять лет. Затем – аресты и ссылки в 1925, 1935, 1938 и 1949 годах. Ее сын от первого брака Володя Тимирев за переписку с отцом, находящимся за границей, расстрелян в 1938-м…

Последняя фотография адмирала А. В. Колчака, конец 1919 г.
Колчака уже не было, но советской власти предстояло еще показательно расправиться с “колчаковщиной”. С 20 по 30 мая 1920 года, в рабочем пригороде Омска – Атаманском хуторе – проходили заседания Чрезвычайного революционного трибунала “по делу самозванного и мятежного правительства Колчака и его вдохновителя”. Трибунал судил “членов колчаковского правительства”, среди которых было лишь три министра, остальные – функционеры второго – третьего ряда. Главные фигуры успели уйти на “белую” часть России или эмигрировать. Тем не менее, приговоры были максимально жестокими: четырех подсудимых Ревтрибунал приговорил к смертной казни, шестерых – к пожизненным принудительным работам, троих – к принудительным работам на все время Гражданской войны, семерых – к работам на десять лет, двоих – к условному лишению свободы сроком на пять лет, одного – суд признал невменяемым и поместил в психиатрическую лечебницу. Осужденные обратились с просьбой о помиловании к Ленину. Разумеется, безрезультатно. Большевистское руководство отлично понимало, что приговоренные “мелкие сошки” не представляют серьезной опасности. Приговор был назиданием. Обществу следовало понять – всех примкнувших к оппозиции власть станет карать беспощадно. Как показала дальнейшая практика, назидание было усвоено.
Юлия Кантор , доктор исторических наук
На анонсе: Филипп Москвитин. «Адмирал Колчак», 2010г.
И находившийся фактически под негласным арестом чехословацкого командования , был доставлен в Иркутск и 15 января с санкции французского генерала Жанена выдан чехословаками представителям эсеро-меньшевистского Политцентра и помещён в губернскую тюрьму. 21 января Политцентр передал власть в Иркутске, а с ней и арестованного адмирала, большевистскому Иркутскому военно-революционному комитету.
Причины расстрела
Вопрос о расстреле Колчака неоднократно освещался в мемуарной и исследовательской литературе. До 1990-х годов считалось, что все обстоятельства и причины этого события досконально выяснены. Некоторые расхождения в литературе существовали лишь в вопросе о том, кто отдал приказ о расстреле Колчака. Одни мемуаристы и исследователи утверждали вслед за советскими историками, что такое решение принял Иркутский военно-революционный комитет по собственной инициативе и в силу объективно сложившихся военно-политических обстоятельств (угроза нападения на Иркутск подошедших с запада остатков колчаковской армии под командованием генерала Войцеховского) , другие приводили сведения о наличии директивы, исходившей от председателя Сибревкома и члена Реввоенсовета 5-й армии И. Н. Смирнова . О причине расстрела без суда Г. З. Иоффе в монографии 1983 года писал: «Судьбу Колчака фактически решили каппелевцы, рвавшиеся в Иркутск, и контрреволюционные элементы, готовившие восстание в городе» . Историк привёл практически полностью текст «Постановления № 27», принятого Военно-революционным комитетом 6 февраля:
Обысками в городе обнаружены во многих местах склады оружия, бомб, пулеметных лент и пр.; установлено таинственное передвижение по городу этих предметов боевого снаряжения; по городу разбрасываются портреты Колчака и т. п.
С другой стороны, генерал Войцеховский, отвечая на предложение сдать оружие, в одном из пунктов своего ответа упоминает о выдаче Колчака и его штаба.
Все эти данные заставляют признать, что в городе существует тайная организация, ставящая своей целью освобождение одного из тягчайших преступников против трудящихся - Колчака и его сподвижников. Восстание это безусловно обречено на полный неуспех, тем не менее может повлечь за собою ещё ряд невинных жертв и вызвать стихийный взрыв мести со стороны возмущенных масс, не пожелающих допустить повторение такой попытки.
Обязанный предупредить эти бесцельные жертвы и не допустить город до ужасов гражданской войны, а равно основываясь на данных следственного материала и постановлений Совета народных комиссаров Российской социалистической федеративной советской республики, объявившего Колчака и его правительство вне закона, Иркутский военно-революционный комитет постановил:
1) бывшего Верховного правителя адмирала Колчака и
2) бывшего председателя Совета министров Пепеляева
р а с с т р е л я т ь.
Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв.
Постановление подписано членами ВРК А. Ширямовым, А. Сноскаревым, М. Левенсоном и Обориным.
Лишь в начале 1990-х годов в CCCР была опубликована записка Ленина заместителю Троцкого Э. Склянскому для передачи по телеграфу члену Реввоенсовета 5-й армии , председателю Сибревкома И. Смирнову, которая к этому моменту была известна за границей уже 20 лет - с момента опубликования в Париже издания «Бумаги Троцкого» :
Шифром. Склянскому: Пошлите Смирнову (РВС 5) шифровку: Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин. Подпись тоже шифром.
1. Беретесь ли сделать архи-надежно?
2. Где Тухачевский?
3. Как дела на Кав. фронте?4. В Крыму?
По мнению ряда современных российских историков, эту записку следует расценивать как прямой приказ Ленина о бессудном и тайном убийстве Колчака .
Председатель Сибревкома И. Н. Смирнов утверждал в своих воспоминаниях, что ещё во время пребывания в Красноярске (с середины января 1920 г.) получил шифрованное распоряжение Ленина, «в котором он решительно приказал Колчака не расстреливать», ибо тот подлежит суду . Однако после получения этого распоряжения штаб авангардной 30-й дивизии направил в Иркутск телеграмму, в которой сообщался приказ Реввоенсовета 5-й армии, согласно которому расстрел Колчака допускался: «…адмирала Колчака содержать под арестом с принятием исключительных мер стражи и сохранения его жизни…, применив расстрел лишь в случае невозможности удержать Колчака в своих руках » , а Ленину и Троцкому Смирнов телеграфировал 26 января: «Сегодня… дан… приказ… чтобы Колчака в случае опасности вывезли на север от Иркутска, если не удастся спасти его от чехов, то расстрелять в тюрьме ». «Вряд ли возможно», - пишет биограф Колчака Плотников, чтобы такой приказ Смирнов мог дать «без санкции не только партийного центра, но и лично Ленина» . Плотников полагает в связи с этим и на основании косвенных данных (упоминаемых в записке обстоятельств, не имеющих отношения к основному содержанию), что записка Ленина была ответом на телеграмму Смирнова, и датирует её концом двадцатых чисел января 1920 г. Таким образом, историк считает очевидным, что Смирнов имел установку на расстрел Колчака непосредственно от Ленина, на основании которой он выбрал подходящий момент - выход белогвардейцев к Иркутску - и 6 февраля направил телеграмму исполкому Иркутского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов: «Ввиду возобновившихся военных действий с чехо[словацкими] войсками, движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения советской власти в Иркутске, настоящим приказываю Вам: находящихся в заключении у Вас адмирала Колчака, председателя Совета министров Пепеляева, всех, участвовавших в карательных экспедициях, всех агентов контрразведки и охранного отделения Колчака с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить » .
Д. и. н. Г. З. Иоффе обратил внимание на то, что хотя и А. В. Колчак, и «все ставленники и агенты Колчака» были объявлены вне закона ещё в августе 1919 года постановлением Совнаркома и ВЦИК Советов , бессудно были казнены только А. В. Колчак и В. Н. Пепеляев. Остальных арестованных состоявшийся в мае 1920 года трибунал, исходя из того, что «острый момент гражданской войны миновал», нашёл возможным предать суду .
Некоторые современные историки считают, что смысл действий Ленина здесь, как и в случае с убийством Царской Семьи , состоял в попытке снять с себя ответственность за бессудную казнь, представив дело как народную инициативу и «акт возмездия» . К этому мнению близка точка зрения историка А. Г. Латышева, согласно которой Ленин мог именно так поступить по отношению к царской семье, но посчитал это нецелесообразным . В. И. Шишкин, не отрицая наличия ленинской директивы о необходимости расстрела Колчака, не считает Ленина единственным виновником бессудного убийства, указывая, что в советской России в то время не существовало иной точки зрения по этому вопросу. По его мнению, освобождение А. В. Колчака было делом нереальным, и его расстрел был инициирован верхушкой большевистского руководства как акт политической расправы и устрашения .
Г. З. Иоффе оставил открытым вопрос о корректной датировке записки Ленина Склянскому , но обратил внимание на неясности в тексте записки, если считать, что она была написана уже после расстрела .
Каппелевцы под Иркутском
На выручку попавшему в беду адмиралу поспешил оставшийся ему до конца верным генерал В. О. Каппель во главе ещё сохранивших боеспособность остатков частей Восточного фронта Русской армии , несмотря на лютую стужу и глубокие снега, не щадя ни себя, ни людей . В результате при переправе через реку Кан Каппель провалился с конем под лед, обморозил ноги, и уже 26 января скончался от воспаления легких.
Войска белых под командованием генерала С. Н. Войцеховского продолжили движение вперед. Их оставалось всего 4-5 тысяч бойцов. Войцеховский планировал взять штурмом Иркутск и спасти Верховного правителя и всех томившихся в тюрьмах города офицеров. Больные, обмороженные, 30 января они вышли на линию железной дороги и у станции Зима разбили высланные против них советские войска. После короткого отдыха, 3 февраля , каппелевцы двинулись на Иркутск. Они с ходу взяли Черемхово в 140 км от Иркутска, разогнав шахтёрские дружины и расстреляв местный ревком .
По свидетельству генерала Пучкова, генерал Войцеховский мог рассчитывать при реализации своего плана спасения Колчака не более чем на 5 тыс. бойцов, которые были растянуты вдоль дороги так, что на их сборы к месту боя понадобилось бы не менее суток. Армия имела 4 действующих и 7 разобранных орудий с ограниченным количеством боеприпасов. В большинстве дивизий наличествовало не более 2-3 пулемётов с мизерным количеством патронов. Ещё хуже дела обстояли с патронами у стрелков . Тем не менее, по свидетельству генерала, «…при малейшей надежде найти Верховного Правителя в городе армия атаковала бы Иркутск немедленно же с подходом к нему» .
В ответ на ультиматум командующего советскими войсками Зверева о сдаче Войцеховский направил красным встречный ультиматум с требованием освобождения адмирала Колчака и арестованных с ним лиц, предоставления фуража и выплаты контрибуции в размере 200 млн руб., обещая обойти в этом случае Иркутск стороной .
Большевики не выполнили требований белых, и Войцеховский перешел в атаку: каппелевцы прорвались к Иннокентьевской в 7 км от Иркутска. Иркутский ВРК объявил город на осадном положении, а подступы к нему были превращены в сплошные линии обороны. Началось сражение за Иркутск - по ряду оценок, не имевшее себе равных за всю гражданскую войну по ожесточённости и ярости атак. Пленных не брали .
Каппелевцы взяли Иннокентьевскую и смогли прорвать линии городской обороны красных. На 12 часов дня был назначен штурм города. В этот момент в события вмешались чехи, заключившие с красными соглашение, имевшее целью обеспечение их собственной беспрепятственной эвакуации. За подписью начальника 2-й чехословацкой дивизии Крейчего белым было направлено требование не занимать Глазковского предместья под угрозой выступления чехов на стороне красных. Сражаться со свежим хорошо вооруженным чешским контингентом у Войцеховского уже не хватило бы сил. Одновременно пришли вести о гибели адмирал Колчака. В сложившихся обстоятельствах генерал Войцеховский приказал отменить наступление. Каппелевцы с боями начали отход в Забайкалье .
Расстрел
В ночь на 25 января (7 февраля) 1920 года в тюрьму, где содержались А. В. Колчак и бывший Председатель Совета Министров Российского правительства В. Н. Пепеляев , прибыл отряд красноармейцев с начальником И. Бурсаком. Сначала со второго этажа был выведен Пепеляев, затем - А. В. Колчак. Адмирал шел среди кольца солдат совершенно бледный, но спокойный. Все время своего ареста и до смерти А. В. Колчак держался мужественно и совершенно спокойно, хотя и не питал иллюзий относительно своей участи. Внутренне же адмирал за эти дни нечеловечески устал, ко дню своей смерти, в возрасте 46 лет, он был уже совершенно седым .
Перед расстрелом А. В. Колчаку было отказано последний раз повидаться с его любимой - А. В. Тимиревой , добровольно арестовавшейся вместе с Александром Васильевичем, не желая его покидать. Адмирал отверг предложение палачей завязать глаза и отдал Чудновскому кем-то ему ранее переданную капсулу с цианистым калием, так как считал самоубийство неприемлемым для православного христианина , попросил передать свое благословение жене и сыну .
Общее руководство расстрелом осуществлял председатель губчека Самуил Чудновский , расстрельной командой руководил начальник гарнизона и одновременно комендант Иркутска Иван Бурсак.
Полнолуние, светлая, морозная ночь. Колчак и Пепеляев стоят на бугорке. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский шепотом говорит мне:
– Пора. Я даю команду
– Взвод, по врагам революции – пли!
Оба падают. Кладем трупы на сани-розвальни, подвозим к реке и спускаем в прорубь. Так «верховный правитель всея Руси» адмирал Колчак уходит в свое последнее плавание».Из воспоминаний И. Бурсака
Как отмечает историк Хандорин, в своих «неофициальных» воспоминаниях, Бурсак пояснял: «Закапывать не стали, потому что эсеры могли разболтать, и народ бы повалил на могилу. А так - концы в воду» .
Даже сами расстрельщики, враги, отмечали впоследствии, что адмирал встретил смерть с солдатским мужеством, чего нельзя было сказать о Пепеляеве, который малодушно валялся в ногах у палачей и молил о пощаде. Адмирал А. В. Колчак сохранил достоинство и перед лицом смерти .
После расстрела
На свою просьбу она получила отказ - ей сообщили, что тело А. В. Колчака якобы уже погребено .
Правовые оценки расстрела
К. и. н. Н. Е. Руденский полагал, что казнь Колчака была сродни самосуду, так как была проведена по постановлению Иркутского военно-революционного комитета, выполнявшего указание центрального большевистского руководства. Никакого суда над Колчаком проведено не было .
Память
Примечания
Источники
- Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. ISBN 5-222-00228-4 , стр. 262
- Кручинин А. С. ISBN 978-5-17-063753-9 (АСТ), ISBN 978-5-271-26057-5 (Астрель), ISBN 978-5-4215-0191-6 (Полиграфиздат), стр. 514
- Ширямов А. Борьба с колчаковщиной // Последине дни колчаковщины. - М.-Л., 1926; Он же. Иркутское восстание и расстрел Колчака. // Борьба за Урал и Сибирь. - М.-Л., 1926; Парфенов (Алтайский) П. С. Борьба за Дальний Восток (1920-1922). - М.-Л., 1928; Бурсак И. Н. Конец белого адмирала // Разгром Колчака. Воспоминания. - М., 1969; и др.
- Смирнов И. Н. Конец борьбы с колчаковщиной // Пролетарская революция. - М.-Л., 1926. - № 1 (48); Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и её крах. - М., 1983. - С.260; и др.
- В. И. Шишкин Расстрел адмирала Колчака
- Генрих Иоффе. Колчаковская авантюра и её крах. Глава 9. Крушение .
- Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность. 14. Кто, когда и как решил вопрос об убийстве А. В. Колчака? Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 1998. - 320 с. ISBN 5-222-00228-4 .
- В. Г. Хандорин. Адмирал Колчак: правда и мифы
- Кручинин А. С. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память / Андрей Кручинин. - М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. - 538, с.: ил. ISBN 978-5-17-063753-9 (АСТ), ISBN 978-5-271-26057-5 (Астрель), ISBN 978-5-4215-0191-6 (Полиграфиздат), стр. 522
- Иоффе Г. З. Верховный правитель России: документы дела Колчака (рус.) // Новый журнал : Литературно-художественный журнал русского Зарубежья. - 2004. - Т. 235.