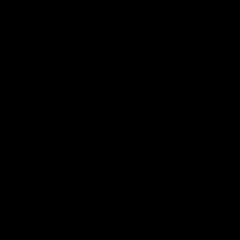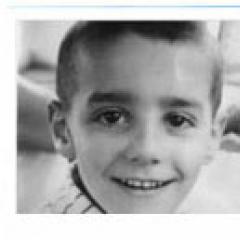И мужчины в истории. Опыт социальных кризисов в исторической памяти Репина л п персональная история
(из книги Людмилы Рашидовны Хут Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX-XXI вв.: монография / Л. Р. Хут; Московский педагогический государственный университет; Адыгейский государственный университет. – М.: Прометей, 2010. С. 529–549 )
Л.Р. Хут. Сегодня, 14 июня 2009 г., мы беседуем с заместителем директора Института всеобщей истории РАН, президентом Российского общества интеллектуальной истории, руководителем Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН, членом Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени, Ассоциации британских исследований, Международной комиссии по истории городов при Международном конгрессе исторических наук, ответственным редактором периодических изданий «Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», «Адам и Ева. Альманах гендерной истории», членом редколлегий журналов «Новая и новейшая история», «Средние века», «Социальная история», доктором исторических наук, профессором Лориной Петровной РЕПИНОЙ.
Лорина Петровна, как Вы можете охарактеризовать современную ситуацию в отечественной историографии? В частности, подпадает ли она, по Вашему мнению, под понятие «кризиса»?
Л.П. Репина. (Смеётся) Очень интересный вопрос, учитывая, сколько у нас написано и сколько говорится о кризисе. Мне кажется, что мы немножечко опаздываем в своих характеристиках. У нас был период, который, действительно, можно было однозначно охарактеризовать как кризис. Правда, с учётом того, что мы под кризисом понимаем, поскольку разные люди по-разному понимают это слово. В своё время, ещё в 1980-е гг., когда мы обсуждали проблему кризиса, у нас совершенно чётко сообщество делилось на две части. Одни понимали под словом «кризис» что-то такое, что заканчивается практически летальным исходом. Другие, оптимисты, видимо, понимали под словом «кризис» то, что, в конце концов, заканчивается какой-то очень новой и позитивной ситуацией, что надо пройти через кризис для того, чтобы отдалиться, для того, чтобы пересмотреть то, что кажется уже устаревшим и, может быть, действительно, требует пересмотра и выйти в какое-то новое русло. Я, как оптимист по натуре, естественно, придерживаюсь именно этой точки зрения, тем более, что, в общем-то, мне кажется, что действительность доказала, что кризис – это вообще очень свойственное для исторической науки состояние. Если мы посмотрим с точки зрения истории историографии, то увидим, что время от времени наука пребывает в таком состоянии.
Л.Р. Хут. Иными словами, кризис – это не показатель нездоровья?
Л.П. Репина . Это не показатель нездоровья, это сигнал, это показатель того, что надо проинвентаризировать всё, что сделано к этому времени. Посмотреть, что не удовлетворяет накопившимся знаниям, т.е., те теории, может быть, те концепции, которые уже выглядят устаревшими не потому, что нам кажется, что нам нужно сменить платье на новое, а потому что действительно мы обнаруживаем какие-то противоречия, которые, в общем, не позволяют нам в этой же парадигме дальше работать. Хотя, как всегда, сторонники старой парадигмы прекрасно существуют в течение весьма и весьма длительного времени, а, может быть, переживут ещё и тех, кто, как кажется, находится в авангарде. Так вот, если посмотреть на историю историографии, то мы увидим целый ряд ситуаций, когда такой кризис был. Более того, историография науки в целом, а не только исторической науки, тоже показывает наличие таких кризисных ситуаций, когда, собственно, и происходит это обновление. Поэтому, мне кажется, что не надо так драматически воспринимать это. Наоборот, если бы не было кризиса… Кризиса нет у мертвецов вообще-то, это уж точно, они никогда в кризис не впадают… (Смеётся).
Л.Р. Хут. Т.е. организм науки жив?
Л.П. Репина. Абсолютно. Это как раз показатель его жизнестойкости. Я не могу сказать, что мы находимся сейчас на пике развития, конечно, было бы смешно такое утверждать, но, в конце концов, мы имеем очень интересные работы, мы видим новое, и не всегда это новое – только то, что идёт вслед за какими-то путями, намеченными западной историографией. Конечно, мы понимаем с Вами, что очень многое было заимствовано. За то время, пока мы занимались решением некоторых других своих вопросов, всё-таки, зарубежная историческая литература ушла довольно далеко вперёд. Тем более что у нас совершенно не учитывают, как мне кажется, один ещё момент. Почему зарубежная историография в опредёленные периоды, а если говорить точнее, то во второй половине XX в., так бурно развивалась? Это ведь было связано и с бурным развитием социально-гуманитарного знания вообще, на Западе, прежде всего. У нас же были в этом смысле очень жёсткие ограничения как раз по социальным теориям. А они не просто заимствовали эти теории из смежных наук. Они их перерабатывали, они их адаптировали, они применяли их собственно к работе с историческими источниками, и они смогли выйти на очень многие позиции, которые, к сожалению, у нас плохо развивались, хотя были отдельные, как мы с Вами прекрасно знаем, примеры, которые, в общем, шли в авангарде. Но что касается 2000-х гг., то уже сейчас, по-моему, вообще в корне неверно рассматривать эту ситуацию только с позиций кризиса. Мне представляется, что это как раз уже совершенно очевидный выход.
Л.Р. Хут. Можно сказать, что в истории отечественной исторической науки рубежа XX – XXI вв. уже довольно отчётливо выделяются два этапа: это, условно говоря, конец 1980-х – 1990 –е гг. – поиски новой самоидентификации, и 2000-е гг. – обретение своего лица.
Л.П. Репина. Да, как любое явление, оно, конечно, очень неоднородно. Там есть неравномерности в разных областях исторической науки, это понятно. Это, конечно, условно, как условна любая периодизация, но эти два этапа очень чётко просматриваются. Я бы даже так сказала: может быть, не до самого конца XX в., а где-то до середины 1990-х гг., в общем, где-то, может быть, с 1996-1997 гг. начинается, мне кажется, новый этап.
Л.Р. Хут. Вы – человек, занимающий высокий пост в корпорации российских историков, обременённый различного рода должностными полномочиями. На этом посту, с высоты этих должностных обременений, что Вас больше всего волнует как представителя корпорации российских историков? И вообще, Вы чувствуете себя членом корпорации?
Л.П. Репина. Я чувствую себя членом корпорации, но дело в том, что, говоря о корпорации, мы должны понимать, что имеем в виду. Если мы говорим о корпорации российских историков вообще, то здесь очень трудно себя идентифицировать. Да, конечно, я являюсь историком, который живёт в России, работает в России, является в этом смысле российским историком. Но на уровне коммуникаций, особенно на уровне повседневных коммуникаций, об этом, безусловно, очень трудно говорить. С другой стороны, у нас есть корпоративные объединения. Наши медиевисты, например, очень любят говорить о том, что они являются членами корпорации медиевистов. Если это иметь в виду, то я считаю себя членом другой корпорации. Мы можем говорить о корпорациях в рамках того или иного направления развития исторической науки (я специально не употребляю слово «субдисциплина»), потому что, мы с Вами знаем, есть дисциплинарное членение исторической науки, но я шире здесь беру – скажем, направления, подходы, которые могут быть разделяемы людьми, и это осознается очень чётко, и чётко проявляется в повседневных коммуникациях. То, о чём я сейчас говорю, в первую очередь, это Общество интеллектуальной истории. Знаете, на самом деле, когда мы только начинали его создавать, надо сказать, было очень интересно, потому что оно в каком-то смысле спонтанно возникло. Собственно, о чём шла речь? Речь шла о новых подходах, новом взгляде на то, что есть история идей, история творческой деятельности человека¸ включая массу направлений этой творческой деятельности. Как на неё можно по-другому взглянуть? И вдруг оказалось, что очень много людей, которых я не знала лично, стали, как к магниту, притягиваться друг к другу и к тем, кто, собственно, начал разговор об этом. А начали мы разговор и на конференциях, и в периодической печати… Эти люди абсолютно не были мне знакомы, я даже не предполагала, что они занимаются чем-то, что входит в это пространство, очень обширное пространство интеллектуальной истории.
Л.Р. Хут. В разговорах с коллегами – историками я не раз слышала, что возглавляемое Вами Обществе интеллектуальной истории – это один из немногих в современной российской исторической науке примеров успешного сотрудничества достаточно широкого конгломерата историков, представителей и столичной, и региональной науки, которые нашли общее поле для сотрудничества, я бы даже сказала совместничества в условиях современного «осколочного» знания, которое имеет место быть в исторической науке. Это Общество – пример из разряда исключительных. Как Вам это удалось?
Л.П. Репина. Это удалось в какой-то степени неожиданно. Когда мы только начинали, когда стали появляться мои первые публикации на эту тему, началось общение с людьми, я совершенно не ожидала такой реакции. Я думала, что это направление, которое меня интересует, которым отчасти я занималась всю свою жизнь, поскольку речь идёт об истории исторической науки как части интеллектуальной истории. И вдруг я обратила внимание на то, что люди, казалось бы, совершенно к этому не имеющие отношения, интересуются, подходят, присылают письма. Я думаю, что это было связано с какой-то потребностью людей, к тому времени уже ярко выраженной. Это была потребность обновления, нового взгляда на ту же историографию. Вы прекрасно знаете, как у нас долгое время понималась историография, которая вообще была на задворках исторических исследований, воспринималась как нечто чуть ли не самое маргинальное даже в рамках вспомогательных исторических дисциплин. Только как проблемная историография, т.е. нечто вспомогательное для того, чтобы написать дипломную работу или диссертацию. И всё. Я помню, как подала справку для нашего директора о наиболее перспективных направлениях современной историографии, в том числе о направлении интеллектуальной истории. И, поразмыслив, Александр Оганович решил всё-таки создать такой Центр интеллектуальной истории в нашем институте. В конце 1998 г. он был создан, и вдруг началось какое-то странное движение. К нам пришли философы, социологи, политологи, даже экономисты, но в меньшей степени, те, кто занимался историей экономической мысли. С политологами мы провели в Перми замечательную конференцию по интеллектуальным сообществам. Мы думали, что говорим на разных языках, но оказалось, что можем говорить друг с другом, хотя это был первый опыт. Понимаете, интеллектуальная история – это очень широкое междисциплинарное поле. Оно междисциплинарно по определению, потому что речь идёт о мыслительной деятельности человека в самых разных областях, в самых разных сферах знания и не только знания. У нас, кстати, очень много людей, которые занимаются историей искусства, историей литературы, к нам на семинары приходят литературоведы. Оказывается, была потребность в соединении усилий всех в таком стереоскопическом видении этого пространства интеллектуальной истории. Действительно, я слышу, об этом говорят на разных конференциях и в нашем, и в других институтах, что это редкий случай, когда вдруг получилась такая реализация. Конечно, нам потребовался потом ещё этап большой организационной работы, но это уже была вторая ступень. Первая – это неподдельный интерес, чисто человеческий, к общению, очень активному. Причём, как ни странно (сейчас только понимаешь, что это было не странно, а тогда я думала, как же это странно), у нас много людей из разных регионов, которые откликаются и работают очень активно – и гораздо меньше в столице. Сейчас, правда, и в столицах ситуация изменилась. У нас в Петербурге очень большое региональное отделение, самое крупное региональное отделение вообще. В Москве тоже, собственно, довольно активно работают. Буквально каждый год у нас прибавляются и прибавляются региональные отделения.
Л.Р. Хут. Я могу озвучить свои, регионального историка, субъективные ощущения «по поводу». Вы знаете, хочется чувствовать себя частью чего-то. Это потребность возрастающая. Хочется быть в профессии не по принципу «сам себе историк» и в одиночестве «ткать узоры». Допускаю, что для столичных, московских историков общение с коллегами объективно носит избыточный характер. Я, например, воочию убедилась, что на семинары друг к другу они не очень ходят. А мне безумно интересно всё. Понимаете, я думаю, что люди из регионов как раз и потянулись к созданной Вами структуре именно по этой причине – желания быть частью того целого, которое по-прежнему именуется исторической наукой.
Л.П. Репина. Совершенно верно. Понимаете, если говорить о Москве, в Академии наук, в вузах мы имеем много площадок для встреч. Даже если говорить только о нашем институте, у нас столько семинаров, что просто даже физически невозможно в каждом из них участвовать. Конечно, в регионах этого меньше. Но что совершенно поразительно и очень интересно – в конечном счёте, создаются региональные отделения, и люди начинают в регионе активно общаться уже после того, как они присоединились к этому большому сообществу. Я имею в виду не просто общение на уровне повседневности, а научное общение. Понимаете, как интересно происходит? Они не находили друг друга, хотя они были рядом, пока не примкнули к большому сообществу, к этому условному центру.
Л.Р. Хут. Я всё время возвращаюсь к вопросу «о роли личности в истории». Значит, всё-таки, нужен человек, который появится в нужное время в нужном месте и почувствует флюиды, которые буквально витают в воздухе?
Л.П. Репина . Да, они буквально были в воздухе.
Л.Р. Хут. А если бы не было Лорины Петровны Репиной? Что было бы…?
Л.П. Репина. Может быть, было бы что-то другое.
Л.Р. Хут. Вы уверены?
Л.П. Репина. Кстати, я могу сказать, ведь это было. Вот, например, тот семинар, который был у Юрия Львовича Бессмертного. Ведь очень много вокруг него собиралось людей. Конечно, там меньше было народу из регионов, там были, в основном, москвичи, московские ученые, но он очень долго собирал людей вокруг себя, именно потому, что не просто личность собирает, должно быть предложено что-то, в чём каждый увидит возможность своего участия. И это было. Это был замечательный совершенно семинар, который очень многому всех научил. Потом разошлись как-то. И не потому, что не стало Юрия Львовича, это раньше началось. Но в тот момент это было необходимо. Это были 1994-1996 гг. Очень важно, что был такой семинар, и, может быть, если бы Юрий Львович был жив, то вокруг него сейчас было бы гораздо больше людей, поскольку не все же занимаются интеллектуальной историей. Там было бы предложено другое поле. Но из регионов там, действительно, было гораздо меньше. Я не знаю, с чем это связано. У нас очень большая дружба, контакт. Может быть, это связано с тем, что я очень много езжу на самом деле. Вот этот год, я считаю, меньше ездила, чем обычно, и то у меня были всё время поездки, каждый месяц, а то и по две. И это очень важно. Слава Богу, у нас есть теперь Интернет, есть электронная почта, без чего, кстати, всё это было бы невозможно, потому что, я считаю, сейчас жизнеспособным оказывается сообщество, которое активно общается в сети, по Интернету, через электронную почту. У нас огромная страна, иначе невозможно её объединить. А Вы представляете себе ситуацию конца 1990-х гг.?
Л.Р. Хут. Очень хорошо представляю.
Л.П. Репина. А у нас ведь было общество даже в Иркутске. Правда, до Владивостока мы не дотянулись, хотя я туда ездила, но там у нас сообщество как-то не возникло. А вот Иркутск был самым восточным нашим региональным отделением, и что бы мы делали, если бы не было электронной почты. В Сибири у нас очень много отделений. Все удивляются, почему у Вас так много региональных отделений именно в Сибири? А Сибирь оказалась, на редкость, отзывчивой на это предложение. Почему-то, действительно, очень много в разных сибирских центрах, начиная с Урала и дальше на Восток. Очень активно работают наши отделения в Омске, Томске, Екатеринбурге. Вы знаете, что ещё удивительно, и мне очень нравится, благодаря чему так вот это всё развернулось? Каждое отделение нашло свою какую-то «изюминку», свою нишу в этом огромном пространстве. Вот, например, Омск. В этом общем пространстве они ещё более чётко сформулировали, выделили своё направление, которым занимались и ранее. Это проблемы историографии, историографического быта, нового предмета историографии, историко-антропологического подхода на материале историографии. Прекрасно работают. У нашего Ростовского отделения замечательная ниша – человек второго плана в истории. Шесть выпусков уже вышло, и они продолжают этот проект. Знаете, что интересно получилось? Теперь из регионов люди ездят друг к другу. Не в Москву, а друг к другу, причём иногда издалека. Значит, что-то там есть, именно там, куда они едут? Там уже своё пространство, там наработанные какие-то вещи. Это нельзя ничем заменить. Или Томское отделение, например. Томск всегда славился своей школой по методологии истории. Очень интересно работают наши коллеги в Пятигорске. Кстати, в этом городе нет классического университета как такового. У нас сначала Ставропольское отделение возникло, очень успешно работающее по направлению новой локальной истории. Потом они же как бы распространили свой опыт дальше, осуществив такую своеобразную колонизацию. И вот в Пятигорске, в Лингвистическом университете, открывается ещё одно наше отделение. У нас есть также отделения в Брянске, Тамбове, Ярославле, Саратове. Очень успешно работает отделение в Казани. Сейчас, с учётом новых открывающихся региональных отделений в Воронеже и Нижнем Новгороде, их будет где-то 37 в общей сложности. Это много на самом деле. Знаете, есть совсем маленькие организации, например, в Уфе или Череповце, где всего по несколько человек, но они объединились благодаря этому движению. Я, может быть, действительно назвала бы это каким-то движением. Вдруг появляются люди, пишут мне, например, из Барнаула, спрашивают, как можно вступить в Общество. Мы отвечаем, вступаем в переписку. Мне даже кажется, что люди не столько, может быть, стремятся заниматься именно научными проблемами интеллектуальной истории как таковой, сколько найти собеседников, с которыми они могли бы обсуждать какие-то свои научные проблемы. Мы сейчас всё больше и больше сталкиваемся с тем, что к нам примыкают люди, которые, собственно, не занимаются в полном смысле слова историей идей, историей науки и т.д. Они где-то по касательной, т.е. у них есть что-то, что выходит в это пространство, но основная проблематика другая. Например, у нас много тех, кто занимается собственно социальной, а не интеллектуальной историей.
Л.Р. Хут. Я думаю, что опять, вольно или невольно, мы возвращаемся к вопросу о роли личности. Наверное, не случайно то, что во главе этого Общества стоит человек, для которого методологическая рефлексия – органика его пребывания в профессии. В связи с этим – очень болезненный для меня вопрос, который родился из практики окружающей меня действительности. Почему, на Ваш взгляд, т.н. «практикующие» историки столь настороженно относятся, в массе своей, я всё-таки на этом настаиваю, к т.н. «безродным» методологам и эпистемологам? (Л П. Репина от души смеётся) Почему само словосочетание «методологическая рефлексия» часто вызывает такую неадекватную, необъективную реакцию со стороны тех, кто считает себя истинным представителем корпорации, т.е. цеха профессиональных историков?
Л.Р. Репина . Вы знаете, во-первых, это конечно, именно реакция в буквальном смысле слова, это то наследие, которое мы имеем. Понятно, какое отношение было к методологии в своё время, и, естественно, оно не может быть изжито сразу. Тем более что ещё очень активно функционирует, как Вы могли бы убедиться на примере нашего института, то поколение историков, которое привыкло рассматривать методологию или как рецепт (т.е., существует методология, которой мы придерживаемся, и это как бы избавляет нас от необходимости самим по этому поводу размышлять), или же вообще вне этого находящиеся (считающие, что то, что они делают, это чисто историческая профессия, не опирающаяся ни на какую методологию, ни, тем более, идеологию и т.д.) Я очень скептически отношусь, как Вы понимаете, к такого рода способам размышления над своей профессией. Но я Вам скажу больше. Дело в том, что, поскольку я всю жизнь занималась английской историей и историографией, в основном тоже британской, мне очень много приходилось общаться с британскими историками. Это началось с 1988 г., потому что до этого я никуда не выезжала. Я обратила внимание на то, как меняется ситуация в зарубежной историографии. Там ведь тоже – это особенно, кстати, всегда было характерно для британской историографии, потому что там гордились своим эмпиризмом и, в общем-то, тоже не очень обращали внимание на методологию историографии. Они меня тоже с большим удивлением спрашивали вначале: «Чем Вы занимаетесь? Историей историографии?» Это как бы за пределами профессии или, по крайней мере, на её полях. С каждым годом ситуация менялась, потому что менялась историография, сама история как дисциплина. Она изменилась кардинально. В последней трети XX в. сама наша наука, наша дисциплина изменилась свой образ. И сейчас говорить о том, что я не размышляю над тем, что я делаю, а просто беру источник и переписываю… Как мне недавно доказывала один из наших историков: «Источник сообщает, значит, так оно и есть». О чём тут говорить? Трудно разговаривать. Просто мы говорим на разных языках. И мне кажется, что после того, что было сделано не только в зарубежной историографии, не только в зарубежной методологии истории, но и в нашей, после Арона Яковлевича Гуревича, Юрия Львовича Бессмертного, уже говорить о том, что мы делаем вот так, потому что мы берём источник и выписываем из него цитату, и он нам сообщает что-то, это просто странно. Потом мы очень любим говорить о междисциплинарности, но 90 проц. таких высказываний это исключительно декларации, просто декларации. Совершенно не понимают, во-первых, что само представление о междисциплинарности историческое, оно менялось, оно было очень разным, и, во-вторых, междисциплинарность – не в том, что я Вам скажу, что использую такие-то нетрадиционные источники, что я заимствую такой-то метод, а надо мыслить себя в этом междисциплинарном контексте. А чтобы осмыслить своё место в этом контексте, как же можно без методологии? Что же Вы тогда из себя представляете, если Вы не понимаете этого своего места, свои особенности? Для того чтобы понять особенности исторического метода, надо понимать методы других наук и уметь рефлексировать по этому поводу. Ведь мы же не просто что-то берём и, знаете, как утюг, переносим из одного места в другое. Или любой другой инструментарий, если говорить о вещном инструментарии. Это вещь можно так перенести, и то есть опасность обжечься. А когда мы говорим о творческом, исследовательском инструментарии – это механически не происходит. Здесь всегда нужно осмысление. Вот Вам и рефлексия, а без неё никак.
Л.Р. Хут. У Вас есть своя методологическая «метка»? Вы себя в методологическом плане как-то позиционируете?
Л.П. Репина. Наверное, да. (Смеётся). Хотя, Вы обратили внимание, может быть, что сейчас говорят о плюрализме, кстати, с разными оценками, и с плюсом, и с минусом, и, наверное, не совсем понимают…
Л.Р. Хут. Позвольте, я сразу уточню?
Л.П. Репина. Да.
Л.Р. Хут. Вы сказали «плюрализм». Я слышала два взаимоисключающих высказывания по этому поводу. С одной стороны, «плюрализм есть хорошо, но плюрализм в отдельно взятой голове – это шизофрения». С другой стороны, «я использую методологии исследовательского анализа, характерные для различных методологических направлений, меня можно обвинить в эклектизме, но эклектика – это тоже стиль».
Л.П. Репина . Давайте проведём аналогию с художником. Конечно, художник это не учёный, это раз. Но всё равно, это творческие профессии, там и там.
Л.Р. Хут. Конечно.
Л.П. Репина. Вот художник, он что, одинаково будет писать и портрет, и пейзаж, и бытовую сцену, и натюрморт? Одинаковые ли приёмы он будет применять при написании разных совершенно картин? Наверное, он меняет свою палитру, он меняет цвета, которыми он пишет, он меняет, может быть, мазки, т.е. где-то он пишет более гладкими мазками, где-то он по-другому их накладывает. То же самое, наверное, и историк. Он ведь не может писать микроисторический сюжет совершенно так же, как он напишет курс, допустим, по национальной истории, по региональной истории и т.д. Он же применяет при этом разные методы? Безусловно. Так что я не считаю, что это «шизофрения». Дело в том, что любой метод может быть эффективным и неэффективным, в зависимости от того, к чему он применён, от понимания предмета исследования и понимания того, чего Вы хотите от этого предмета, что Вы хотите узнать при этом. Поэтому очень странно было бы, если бы мы все оперировали только одной краской. В чём недостаток нашего исторического образования? На мой взгляд, в том, что нам не дают в руки всю палитру, когда готовят историка. В лучшем случае, ему прочитают количественные методы, информатику. А кто учит у нас контент-анализу, дискурсивному анализу, всем наборам методов, которые существуют в социально-гуманитарном знании? Тому же методу интервьюирования, которым Вы занимаетесь сейчас? Я не к тому говорю, что каждый историк должен применять все эти методы. Но он должен, во-первых, знать об их существовании, во-вторых, понимать, в чём их суть, и к чему они могут быть применены. Он должен иметь эту палитру. Другое дело, он может предпочитать тёплые или холодные тона, но палитру он должен иметь. А у нас он её не имеет. Ни в одном вузе не готовят историка так, чтобы он владел совокупностью хотя бы основных методов, применяемых в современном социальном и гуманитарном знании.
Л.Р. Хут. Историк не только может, но и обязан быть разным?
Л.П. Репина. Обязан, конечно. В нашей профессии сейчас гораздо шире, чем в XIX в., понимаются профессиональные навыки и компетенции, как принято теперь выражаться.
Л.Р. Хут. Если мы заговорили о компетенциях, то нельзя, наверное, обойти и так называемый деятельностный подход к обучению.
Л.П. Репина . Да, но это всё возможно только на семинарских, практических занятиях. Чтение лекций по методам – это просто смешно, понимаете? Так не передается знание. Как передавалось даже то знание, которое мы условно называем позитивистским в историографии? Из рук в руки. Абсолютно прав был М. Блок, всё равно это ремесло. Ремесло только так, из рук в руки, и передаётся. А из рук в руки – это как? Вы делаете вместе. Я всегда вспоминаю, как со мной занималась Евгения Владимировна Гутнова. Мы начинали с ней с того, что вместе читали и комментировали источник. Это и есть деятельностный подход. Не то, что она мне сообщала, как надо делать, мы делали это вместе. Она учила меня так, как в своё время её учил Евгений Алексеевич Косминский. У неё портрет висел на стене, где она сидела рядом с ним с томом статутов королевства, и они вместе его читали. Только так можно передать ремесло. А если мы говорим о современных методах и предполагаем, что преподаватель придет и за 10-20 часов лекций расскажет обо всех методах, и мы будем примерно представлять, что это такое, то тут, из таких курсов и рождается это пренебрежение и негативное отношение к методологии.
Л.Р. Хут . Лорина Петровна, если опять с высоты птичьего полёта бросить взгляд на те методологические новации, которые случились, пусть даже будучи ретранслированными, в отечественной историографии рубежа XX-XXI вв., какие из них кажутся Вам наиболее интересными, наиболее перспективными?
Л.П. Репина. Вы имеете в виду новации в смысле теории или в смысле практики, т.е. направления какие-то исторические?
Л.Р. Хут. Меня больше интересует теория.
Л.П. Репина. Вы, наверное, уже поняли из моих статей, что я с большим интересом отношусь к новым социологическим теориям, которые связаны с попыткой синтеза структурного и деятельностного подходов. Там, конечно, есть очень много образцов, они в чём-то перекликаются, я уже писала о том, как они сходятся в каком-то одном пространстве, какие-то вещи они просто называют по-разному. Терминология социологических теорий различается. Но, по существу, если говорить об их применении в истории, они нас ориентируют примерно в одном ключе, это попытки такого синтетического подхода, который, кстати, в истории можно осуществить. Я приводила примеры таких образцовых исследований, которые требуют огромного кропотливого труда, но, тем не менее, позволяют нам показать, как из деятельности людей рождаются структуры, которые сами же потом и обуславливают эту деятельность. Это социологические теории Э. Гидденса и П. Бурдье, конечно. Хотя к каждому из этих авторов можно присовокупить какие-то наши неудовлетворённости. В частности, П. Бурдье очень многие критикуют за его концепцию габитуса, потому что там слишком просматривается детерминированность. Знаете, вырванные цитаты всегда очень упрощают и округляют концепцию. Надо не вырывать цитаты, надо внимательно читать всё подряд, даже там, где Вам кажется, что он о чём-то малозначащем говорит. Чтобы понять концепцию, надо быть очень и очень внимательным. На самом деле, если читать внимательно, нет там никакого гипердетерминизма. Очень интересно, кстати, работают наши петербургские социологи. Например, В. В. Волков и О. В. Хархордин. Их «Теория практик» – замечательная совершенно книжка. Они, собственно, представляют различные теории практик. Для историка это кладезь. Понятно, что мы не заимствуем эти теории. Мы просто пытаемся на этой основе осмыслить тот материал, с которым мы имеем дело. Они нас просто ориентируют, для историка эти теории ориентирующие, и, когда мы поступаем таким образом, то очень обогащаем свою собственную работу. Вообще, что такое «метод»? «Путь», если перевести это слово на русский язык. Они показывают нам путь, а вовсе не то, что мы железно должны встроить в эту схему всё, что угодно.
Л.Р. Хут. Я думаю, Вы очень правильно насчёт П. Бурдье сказали. Я пыталась выборочно его читать, допустим, раздел «Поле науки» из его работы «Социальное пространство: поля и практики». Не пошло, и я поняла, что надо читать всё, потому что, действительно, воспринять концепцию можно только после глубокого погружения в систему аргументации автора.
А как случился Ваш «мостик» к наработкам российской историографии рубежа XIX – XX вв.? Для меня очень значимо то, что Вы пишете в своей недавней работе «Идея всеобщей истории в России: от классики к неоклассике» . Вы ищете и находите в творчестве известных российских историков этого периода то, что созвучно поискам современной западной историографии и нашим ретрансляциям по этому поводу. Как у Вас это случилось?
Л.П. Репина. Вообще-то, надо сказать, что это всё было давно, я всегда интересовалась историей историографии. Это мне было известно, когда я сама этим ещё не занималась. Просто мне это было интересно, я много читала. Потом, знаете, ведь у нас в XIX в. была очень сильная англоведческая школа. Волей-неволей, даже когда я занималась конкретно-историческими проблемами средневековой Англии, я, естественно, читала и работы наших ведущих специалистов. Поэтому я хорошо была знакома с интеллектуальным контекстом того времени.
Л.Р. Хут. Сейчас у Вас очень плотно пошли статьи по идее всеобщей истории. С чем это связано?
Л.П. Репина. Я не могу даже сказать, с чем это конкретно связано. Наверное, с моим постоянным интересом. Дело в том, что, когда я читаю эти работы, я стараюсь не вчитывать туда то, чего там нет, понимаете? Я не хочу сближать то, что там написано, те идеи, те мысли, которые там отражены, с тем, что я сейчас себе представляю. Очень важно другое. Понимаете, в чём дело, ведь то, что выросло в мировой исторической науке в конце XX – начале XXI вв., тоже не с неба свалилось. Оно проросло. Вы не обращали, наверное, внимания, но многие западные историки, я имею в виду крупных, которые мыслят методологически, очень часто ссылаются на тех же своих западных историков (русскую литературу, они, конечно, или вообще не знают, или знают очень плохо), почему-то старых, XIX и особенно начала XX вв. Они тоже обнаруживают у них какие-то мысли, которые возбуждают их творческую деятельность, их творческую рефлексию сегодня. Они в чём-то созвучны, а в чём-то наоборот, они позволяют найти всегда что-то новое, но к чему-то апеллируя, т.е. с чем-то сопоставляя. Вы можете сказать, да, это новое, когда сопоставляете с тем, что уже есть. В этом смысле, чем интересны эти наши историки? Во-первых, вторая половина XIX в. – это золотой век всякой историографии. И мировой, зарубежной, и нашей, отечественной. Ведущие, замечательные, великие наши историки XIX в. были не только на уровне мировой науки, они во многом в своих соответствующих областях превосходили западных историков. Я очень люблю цитировать Т. Н. Грановского, когда он говорит о том, что мы, русские, можем увидеть в зарубежной истории, не российской, а всеобщей истории, то, чего не увидят ни французские, ни английские, ни немецкие историки, потому что для них эта история – своя. А мы смотрим на эти процессы со стороны, да ещё в такой момент, когда у нас идут сходные процессы, хотя для них они уже давно прошли. И ещё вот замечательное выражение П.Г. Виноградова «антиквариат британской истории». Вот, мол, русские историки интересуются антиквариатом британской истории. Почему? Потому что для них это не антиквариат, это была действительность, в которой они жили. Очень сходные были процессы, но, конечно, во многом и различающиеся. И они не случайно так были интересны для них. Или, например, тот же Владимир Иванович Герье. Я давно мечтаю написать, но пока, к сожалению, так и не написала, большую статью «Владимир Иванович Герье и начало интеллектуальной истории в России». То, что сделал В.И. Герье, – это есть сейчас та интеллектуальная история, о которой мы говорим. Современная интеллектуальная история только выходит в это пространство. Таких работ, какую он сделал по В. Лейбницу, у нас нет ещё, нет. У него не просто Лейбниц, не просто его идеи, не просто его жизнь. У него весь интеллектуальный контекст, вся Европа, он показывает все коммуникативные сети. Вот это современное представление об интеллектуальных сетях. Он не называет это интеллектуальной сетью, но она у него вся продемонстрирована. Он показывает, как распространялись эти идеи, не просто связи между интеллектуалами какими-то, а как эти идеи шли шире в образованное общество, пусть это была только верхушка общества, но как они распространялись. Кстати, он пишет о том, какую роль женщины сыграли в этом, салоны. А работа-то когда была написана? В середине XIX в.! О ней забыли совсем. А сейчас мы хотели её переиздать. Когда я договаривалась, в Петербурге вышло переиздание. И что они сделали? Они издали её один к одному, без комментариев, без всего, понимаете? Что ж это за медвежья услуга Владимиру Ивановичу Герье? Это памятник мысли всё-таки, там нужен был тщательный комментарий, нужна была огромная исследовательская статья, чтобы его собственное произведение уже, не В. Лейбница, которого он поставил в интеллектуальный контекст эпохи, а его произведение было поставлено в интеллектуальный контекст той эпохи, когда это произведение было написано и впервые опубликовано. А так что же? Ну, воспроизвели, так же, как очень многое у нас. Вы видели, наверное, новые издания наших историков XIX в. Мне очень «нравится», как учебники Р.Ю. Виппера публиковали, помните? Мне студенты говорят: «Лорина Петровна, а почему Виппер?» Я в ответ спрашиваю: «А Вы знаете, кто это?» Они даже этого не знают. Они не понимают. А как можно так делать? У меня была статья, которая называлась «Контексты интеллектуальной истории». Она очень маленькая, коротенькая. Конечно, надо было её развернуть, я собираюсь со временем это сделать. Там же множество контекстов, это и социальные, и политические, и, собственно, интеллектуальные и культурные контексты той эпохи. Но анализ интеллектуальной истории это же ещё и другой контекст, вертикальный. Это же постоянное взаимодействие с идеями давно прошедших веков, но они живут, потому что они в книгах, в текстах. Вот Вам интертекстуальность в совершенно живом воплощении. Что такое библиотека? Она создаёт такой контекст. А мы всё время забываем, что философ XVII в., допустим, живёт не только в своём веке, не только идеями своего века, он же общается с философами Античности, Ренессанса, схоластами Средних веков и т.д. И историки тоже. Историки что, не читают? Разве тот же Жан Боден не читал историков более раннего периода? Или историки XVIII в. были неграмотными? Исследователь забывает, что эти идеи одновременно сосуществуют, они не просто лежат на полках, они взаимодействуют с нами.
Л.Р. Хут. Когда мы говорим о междисциплинарности, то мы, прежде всего, подразумеваем диалоговые отношения историков с представителями смежных, а иногда и несмежных отраслей знания. А как насчёт разговора внутрицехового? Допустим, между медиевистами и историками Нового времени? Они могут и должны общаться? Если да, то о чём в первую очередь стоит говорить?
Л.П. Репина. Я вообще не понимаю это как вопрос. Я удивляюсь такому делению. Ведь очень часто наши ошибки, какие-то неправильные трактовки возникают, в частности, в тех областях, которые находятся на границе. Почему? Потому что медиевисты считают, что это «не их», а новисты считают, что это тоже «не их». И в результате остаётся целый пласт, не то что совсем неисследованный, а как-то плохо изученный.
Л.Р. Хут. Вот, например, раннее Новое время…
Л.П. Репина. Да, оно всегда страдало. XVII в. – это страдалец, понимаете? Потому что раньше как у нас было? До конца XVI в. – это всё-таки медиевисты ещё изучали, в учебниках это было закреплено. С Английской же революции изучали новисты. И что получалось? Английская-то революция была в середине XVII в. И вот весь XVII в., я говорю не только об истории Англии, а вообще о XVII в., оказывается в каком-то промежутке, в каком-то коридоре, который никому особенно не светил. Не очень-то им занимались. Сейчас периодизация изменилась, слава Богу! Но всё равно я не вижу, чтобы особенно… Понимаете, в чём дело? В нашем институте раннее Новое время к Средним векам более тяготеет. В РГГУ это Новая история. Это чисто институционально, это личностный и институциональный факторы. Что в университете, я даже плохо себе представляю.
Л.Р. Хут. Недавняя статья заведующего кафедрой Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки истфака МГУ Л.С. Белоусова, опубликованная в журнале «Новая и новейшая история» , свидетельствует о том, что этот вопрос и для них до конца не прояснён.
Л.П. Репина. Понимаете, это очень как-то случайно происходит. Это происходит чисто институционально. В разных университетах по-разному. У меня такого деления – медиевисты, новисты – нет именно потому, что меня всегда интересовала история как наука, как способ мышления. Мне интересно читать и по Новейшей истории книги и статьи, хотя интересно читать, конечно, хорошие книги, что большая редкость. Мне очень нравится читать книги по российской истории, хотя я ею никогда не занималась. Я сейчас очень дружу с востоковедами, и в наших проектах многие из них участвуют. Кстати, они для себя открыли совершенно новое общение, новый круг. Они были как в гетто в своём Институте востоковедения. Более того, они же там по «квартирам» сидят, синологи с индологами не общаются, арабисты ни с кем особенно не общаются. Но они вошли в этот проект. Что такое современная историческая наука? Это проекты, коллективные проекты. Я считаю, что будущее за этим. Конечно, остаются индивидуальные монографии и всё остальное. Но где можно прорыв сделать? Коллективные проекты, которые не признают ни географических, ни хронологических границ. И вот именно так мы сделали все наши проекты. Наш самый глобальный проект – по интеллектуальной истории. Там нет разграничений, нет географических и хронологических границ, мы работали все вместе. И так же идёт наш проект по истории памяти, истории исторического сознания. В нём принимают участие востоковеды самых разных направлений, специалисты по странам Запада, разным эпохам, начиная от Древнего Востока и кончая современностью, современной Россией и другими странами. Абсолютно нет ограничений в пространстве и времени. И, Вы знаете, совершенно другой взгляд возникает. Очень многие люди стали по-другому смотреть на свой собственный материал. Например, одна из очень талантливых наших молодых исследовательниц, культуролог по профессии, написала сейчас великолепную книгу, которая пока ещё не опубликована, о монументальных практиках.
Л.Р. Хут. Как её зовут?
Л.П. Репина. Светлана Еремеева. Она несколько раз делала у нас доклады, была на наших конференциях, публиковалась. Правда в самом проекте она как основной исполнитель не участвовала, но статья её опубликована. Великолепная совершенно работа о мемориальных практиках в России с конца XVIII по конец XX вв.
Л.Р. Хут. С большим уважением относясь к действительно сильной и много вынесшей на себе «в лихие 90-е» корпорации медиевистов, я, тем не менее, уже не раз высказывала претензию, суть которой состоит в следующем. Они слишком замкнуты на себе, в том числе и при обсуждении тех вопросов, которые, на мой взгляд, не могут обсуждать только медиевисты или только новисты. Может быть, это происходит из самых благих побуждений, из естественного и нормального чувства самосохранения, не знаю. Приведу конкретный пример. Внимательнейшим образом ознакомившись с материалами трёхдневной читательской конференции журнала «Средние века», особенно с материалами третьего дня, посвящённого обсуждению проблем раннего Нового времени, в частности, проблемы периодизации, я с большим удивлением для себя обнаружила, что, во-первых, обсуждали-то эту проблему только медиевисты, и, во-вторых, один из итоговых лозунгов-призывов звучал так: «Надо беречь нашу поляну!» А что значит «наша поляна»? И в этом смысле я всё-таки считаю, что в данной части выстраивание своих отношений с коллегами по цеху очень уважаемой корпорации медиевистов не совсем правильно.
Л.П. Репина. Кстати, обратите внимание, кто участвует в этой корпорации, ведь там же очень много не медиевистов, а именно специалистов по раннему Новому времени. А вообще для медиевистов характерно цеховое мышление, хотя, конечно, в меньшей степени, чем для антиковедов. Антиковеды – это вообще замкнутая корпорация. Но всё-таки есть вот это цеховое мышление, представление о себе как о своей корпорации. Отчасти в этом есть какие-то плюсы, но в современной ситуации, если говорить о современной историографической ситуации, это не плюс, а минус. Диалог должен быть. И с представителями других дисциплин, я имею в виду других наук, и с представителями других отраслей нашей исторической науки. Но здесь сложности с двух сторон. Дело в том, что многие наши медиевисты и наши новисты говорят на разных языках. Если говорить о специалистах по Новой истории, их всё-таки значительно больше, у нас есть группы и по XVIII, и по XIX в. И они занимаются совершенно другими вещами, они абсолютно по-другому смотрят на тот материал, с которым имеют дело, и с точки зрения методологии разные позиции занимают. Если наша группа по истории XVIII в. видит свою главную задачу в том, чтобы выявить как можно больше архивных документов о связях между просветителями разных стран, то о чём с ними говорить медиевистам? Просто нет площадки, с которой можно было бы вести разговор. А у наших специалистов по XIX в. главный проект сейчас связан с формированием гражданского общества и определённых институтов, но, в общем, в основном, они всё равно занимаются политической или социально-политической историей. Знаете, тут очень трудно взаимодействовать. Почему так привлекательны новые исследовательские поля, которые пришли, может быть, из западной историографии, но, тем не менее, расцвели у нас полным цветом? Именно потому, что они таких границ не знают. Они построены вокруг подхода. Методы могут быть разными, если мы говорим о методе, не о методологии в целом, а о методе. А вот, например, гендерный подход. Он же объединяет, потому что тут мы не будем говорить, вот ты медиевист, а я занимаюсь Новым временем. Если в фокусе у Вас социокультурные представления о маскулинности и феминности, Вам всё равно, каким периодом Ваш собеседник занимается. Вам интересен его материал, потому что Вы видите эти вот знакомые поля, которые дают Вам какую-то пищу для Ваших собственных размышлений. Или интеллектуальная история – то же самое. А если Вы занимаетесь выявлением и публикацией архивного источника как такового, как делают наши коллеги по XVIII в., или если Вы занимаетесь конкретной, я бы сказала так, социальной историей, ещё не перешедшей в историю социокультурную, то о чём Вам говорить? Если Вы занимаетесь средневековым цехом, о чём Вам говорить с тем человеком, который занимается XIX в.? Площадка для Вашего разговора очень ограниченная. Вы можете только в целом что-то сказать, но это не очень большой интерес вызывает. Почему я считаю, что так называемая социокультурная история, если широко её понимать, или культурно-интеллектуальная история имеет хорошие перспективы? Она очень сближает людей, она даёт им более или менее целостный, незашоренный, что ли, взгляд на то, что мы изучаем. Ведь когда мы говорим об изучении культурных представлений, эти же представления у нас обо всём, т.е. мы не выделяем здесь какие-то чисто политические, экономические и т.д. Почему к нам приходили и с большим интересом с нами работали те, кто занимался историей экономической мысли, например? О чём мы говорили? А у нас есть общие позиции, вот этот интеллектуальный контекст. Даже если говорить о живых людях того времени. Они же не сидели в отдельных клетках, они общались. Тот же Ч. Дарвин, например. Он же общался с людьми, которые занимались совершенно другими науками, но, тем не менее, какое влияние всё это оказало, и какое взаимодействие. Поэтому, понимаете, это интересно. Если мы занимаемся какой-то очень конкретной проблемой, это не значит, что все наши мысли и интересы должны этим ограничиваться. Недаром самые выдающиеся историки всех времён и народов всегда были широко мыслящими людьми, не замыкались в своей конкретике.
Л.Р. Хут. Рискну сформулировать вопрос, являющийся одновременно утверждением. После знакомства с достаточно большим количеством исследований отечественных медиевистов и новистов рубежа XX-XXI вв. я заметила, что корпорация медиевистов более ориентирована на работу в рамках, обобщённо говоря, микроподходов к изучению прошлого. Новисты всё-таки больше тяготеют к макро-. У меня сложилось впечатление, что материал зовёт одних и других в разные стороны. Так, попытки целостного взгляда на реалии развития исторического процесса, прежде всего, вызываются к жизни потребностями глобализирующегося, как сегодня говорят, мира. Известный дискурс о том, что история всегда была мировой, но в действительном смысле слова она таковой становится именно в эпоху Нового времени. Так вот именно эпоха Нового времени требует предметного интереса к взаимодействию. Отсюда востребованность, прежде всего, компаративистского анализа. Поле же медиевистики, на мой взгляд, провоцирует, прежде всего, интерес к этим вот «узорам», к локальностям, к частным сюжетам.
Л.П. Репина. Я бы не согласилась с Вами вот в чём. Если говорить о Новой истории, то в западной историографии имеется огромное количество исследований именно по локальной истории, так же как и по медиевистике, и по раннему Новому времени. Вы знаете, локальная история сейчас расцветает. Правда, не сегодня это началось, но, тем не менее, это масса исследований. Буквально несколько дней назад я просматривала журнал, который очень люблю, и который называется «Economic History Review». В нем регулярно публикуется библиография по экономической истории Англии за какой-то конкретный год. Вроде журнал экономической направленности, но чего там только нет, не только экономическая история. В подробнейшей библиографии (набранной мелким шрифтом на 54 журнальных страницах) есть раздел «Локальная история». Он явно выделяется по объёму. Локальная история, региональная история. Во многих странах эти термины воспринимаются почти как синонимы. Т.е. это не зависит от хронологии.
Л.Р. Хут. Не зависит?
Л.П. Репина. Не зависит. Я не про нашу сейчас историографию говорю, а про мировую, т.е., это и по XIX в. так. Наверное, и по XX в., но я просто им не занимаюсь. Он меня как-то не интересует в этом плане. Значит, не в этом дело. Дело, видимо, в другом. С одной стороны, развитие локальной истории Средних веков на Западе, в том числе в Британии, которой я специально занималась, во многом обусловлено тем, что там блестяще сохранились локальные архивы – и приходские, и сельские, и городские. С другой стороны, этих средневековых документов гораздо меньше, чем документов по XIX в. Кроме того, по XIX в. очень многие документы находятся в центральных архивах, потому что в это время государство уже играло другую роль, и они, во-первых, отчасти переходили в государственный архив, центральный, во-вторых, например, цензы, т.е. переписи, тоже ведь были государственные. И все документы туда попадали. А в Средние века подобные документы оседали в местных архивах. Поэтому таких работ, написанных на местных архивах, в рамках локальной истории действительно много. Вы приезжаете в одну деревню, сидите в ней столько лет, сколько Вам надо, и делаете диссертацию на материале этой самой деревни. А сделать на конкретно-историческом материале работу большего масштаба, да ещё по более позднему периоду, когда, естественно, больше источников, довольно сложно. Это значит, надо применять или математические методы, количественные, потому что Вам надо брать выборку, Вы не можете все документы освоить. Или Вам надо что-то придумывать, так сказать, какие-то ещё другие приёмы для освоения этого материала. Это я говорю сейчас о конкретных исследованиях. Другое дело – обобщающие работы. Конечно, это совершенно разные вещи, это другой жанр работ вообще. Что касается микро- и макроистории, то всё зависит от задач, которые ставит перед собой историк в каждом конкретном случае. Вот, например, у моего любимого локального историка, кстати, бывшего главы лестерской школы локальной истории Чарльза Фитьян-Адамса были разные книги. Он занимался сугубо локальной историей. Но однажды его попросили написать обобщающую работу по истории Англии XVI – XVII вв. И он понял, что это совершенно другая работа, другой взгляд на историю. И вот он написал специальную работу «Историк между локальным и национальным». Это другой жанр, другое видение, довольно сложно перейти от одного к другому. И очень часто, я считаю, историки просто кокетничают, говоря о том, что они приверженцы такого очень конкретного, скрупулёзного, тонкого исследования, поэтому они не будут заниматься какими-то обобщениями. На самом деле, это смешно слышать, потому что историк всегда занимается обобщениями, с каким бы конкретным материалом он не работал. Он всё равно занимается какими-то обобщениями, если он, конечно, работает не с одним предложением в одном источнике, просто уровни этого обобщения могут быть разными. Честно говоря, я бы так не делила. Это случайность во многом. Это, знаете, с мозгами связано, особые мозги, наверное, нужны для того, чтобы обобщать. Это не так просто на самом деле, если только Вы не мыслите абстрактными схемами, а пытаетесь обобщить очень большой и очень разнообразный материал. При любом обобщении всегда страдают детали, это понятно, этого невозможно избежать. Но, тем не менее, иначе как бы мы ориентировались в мире, если бы мы не обобщали? Поэтому, мне кажется, тут нет такой дилеммы. Я вообще считаю, что наибольших успехов достигли те историки, которые умели работать таким челночным способом – от микро- к макро- и обратно. И тогда они что-то могли прирастить, какое-то знание, которое не улавливается на каком-то одном уровне. А в своё время Евгения Владимировна замечательно сказала, что очень важно изучать не самые низшие, не самые малые социокультурные формы и не самые высшие, на уровне государства, например, а средние. Об этом, собственно, очень подробно писал тот же Фитьян-Адамс в своих размышлениях над локальным и национальным в истории. Вот эта, как я её называю, «мезоистория» не просто находится посередине, через неё идёт всё взаимодействие между микро- и макро-.
Л.Р. Хут . Лорина Петровна, «выживет ли Клио при глобализации?»
Л.П. Репина. Вопрос Михаила Анатольевича Бойцова. (Смеётся). История выживет, безусловно. История жила и будет жить. Человек не может ориентироваться во времени, не может себя осознавать, не осознавая своё прошлое, т.е. без биографии. Как один человек, так и группы в целом, не говоря уже о больших социумах. История – что это такое? Если говорить по Т. Н. Грановскому, это биография человечества. Уйдёт национальное государство, но человечество-то останется. Вот представьте себе российский XIX в. Казалось бы, идёт нациестроительство, на пике государственная история, а они, наши великие историки XIX в., говорят об истории человечества, а не о национальной истории. А Н.И. Кареев как всё это воспринимал? Знаете, плохо у нас читают. Это или из-за невнимательности, или из-за отсутствия интереса, или из-за лени. Читайте Н.И. Кареева – он же всё сказал про глобальную историю. Всё абсолютно. Он говорил о том, что такое история с всемирной точки зрения. Это история взаимодействий и взаимосвязей. Вот и пишите так глобальную историю, начиная с самого раннего времени.
Л.Р. Хут. История – наука или искусство?
Л.П. Репина. Всё зависит от того, что мы подразумеваем под этим словом. Как Вы знаете, слово «история» многозначно. Если считать профессиональную историографию, это, конечно, наука. Но, наверное, наряду с этой наукой, есть так называемая популярная история, которая в принципе призвана популяризировать научные знания, но не в нашей стране, это точно. В нашей стране то, что называется популярной историей, популяризирует не научные знания, а занимается публицистикой, просто-напросто. Это совершенно отчётливо видно. Поэтому я никогда не занимаюсь популярной историей. Очень жаль, конечно, но в нашей стране это невозможно.
Л.Р. Хут. Действительно ли непроходима грань, разделяющая естественные и гуманитарные науки?
Л.П. Репина. Вы знаете, сейчас естественные науки очень приблизились к гуманитарным. Они тоже вышли за свои рамки.
Л.Р. Хут. Это есть хорошо?
Л.П. Репина. Это очень хорошо. Наверное, пусть будет так.
Л.Р. Хут. Знаете, что я заметила? Представители естественно-математических наук хотят сблизиться с историей, но историки в массе своей дистанцируются. Не могу понять, с чем это связано?
Л.П. Репина. Мы говорим о том, выживет ли история. Как без прошлого? Ведь, чтобы понять сегодняшнюю ситуацию, надо понять, откуда мы к этой ситуации пришли. Ведь мы же видим очень много таких случаев, когда начинают математики влезать в историю, думая, что они всё прекрасно в ней поймут, поскольку они такие умные, и не понимают, в чём суть вообще исторического метода, и результаты получаются вроде Фоменко. Конечно, историки стараются от этого просто отодвинуться, потому что спорить с этими людьми бесполезно. Это уже было. Они приходили к нам в институт, пытались дискутировать. Им рассказывали, им показывали, наглядно даже. Я помню, как Г.А. Кошеленко им говорил: «Вы приходи́те ко мне на раскопки, я Вам дам лопату в руки, откопаете». А они в ответ: «Это просто туда закопали. Специально сфальсифицировали историю, и всё закопали». О чём говорить с этими людьми? Это, конечно, отдельные случаи, но есть и другие.
Л.Р. Хут. Почему эти книги, Носовского и Фоменко, допустим, так активно издаются?
Л.П. Репина. Это вопрос к тем, кто издаёт эти книги. В этом отчасти прав Павел Юрьевич Уваров, когда он говорит, что у нас нет сообщества. Он имеет в виду, прежде всего, экспертное сообщество. У нас нет экспертизы. Но здесь не от нас всё зависит. Ведь экспертом надо стать. Независимая экспертиза должна быть, а где она у нас? Кто нас приглашает как независимых экспертов? То же издательство, допустим, прежде чем издать ту или иную книгу? Ему же важно получить на руки деньги. Ему не важно, что там изображено. Поэтому он никогда не позовёт такого специалиста, который скажет, что издавать эту книгу нельзя. У них были огромные деньги, они издавали миллионными тиражами свои книги.
Л.Р. Хут. А откуда деньги?
Л.П. Репина. Я думаю, что у них было много спонсоров, покровителей разных. А потом, знаете, ведь это же легко. Ведь всё, что упрощённо, особенно скандально, это же интересно, очень часто приглашают на радио, на телевидение выступать. Кстати, вспомнила, как об этом западные историки пишут, просто замечательно. А как П. Бурдье писал об этом, Вы не читали? Это песня, как он описывает это. Приглашают и говорят: «Вам на выступление будет 3 секунды». (Хохочет). У него книжка есть замечательная о телевидении. Там мысли, которые не только для телевидения, а для всего. Это лекции его. Он не ходил на такие мероприятия и говорил: «Я не пойму, а зачем? Это профанация». Я его уважала и уважаю за это.
Л.Р. Хут. А не получается, что именно ввиду наличия таких сообществ «делателей денег» на таких «горячих» сюжетах или «невероятных» идеях, дорога к нормальному органическому естественному диалогу историков и тех же математиков осложняется?
Л.П. Репина . Совершенно верно, я этот пример привожу как раз в этой связи. Ко мне иногда приходят люди со специальными предложениями. Или что-то присылают нам. Есть чистая клиника, про это я вообще не говорю. Когда, например, человек пишет, что он открыл закон развития человеческой цивилизации, и хочет, чтобы я посмотрела этот закон, что об этом говорить? Но есть вполне вроде нормальные люди, из физиков, из технарей каких-то, которым пытаешься показать (а я прежде пробовала, это сейчас я с ними не дискутирую), что это неверно, что нет материала, чтобы вот так рассуждать, что нужно работать с источниками. Что такое источники, они вообще не понимают. Он Л.Н. Гумилёва прочитал и считает, что больше ничего не существует. О чём разговаривать с ними? Не будет разговора. С кем можно разговаривать? Например, Леонид Иосифович Бородкин. Он же в своё время оттуда пришёл, совсем из другой среды. У меня и сейчас есть, о чём с ним поспорить, но всё-таки он стал историком, обрёл историческое мышление, работает с историческими источниками, с исторической аудиторией. Это – совершенно другое дело. А многие думают, что исторические методы – это ерунда. Тем не менее, критический метод анализа материала источников – это один из самых трудных методов, если действительно с ним работать как надо.
Л.Р. Хут. Лорина Петровна, Вы даже не представляете, сколько сказали очень значимых для меня вещей. Большое Вам спасибо!
ОТ АВТОРА
Представляемая на суд читателей книга — результат многолетних исследований. С проблематикой истории женщин и гендерной истории я впервые столкнулась в конце 1970-х гг. в ходе изучения современной историографии и различных направлений в социальной истории второй половины XX в., которые и составляли основной предмет моего научного интереса. В то время тематика женских и, особенно, гендерных исследований выглядела совершенно экзотической и в западной исторической науке, не говоря уже о советской историографии, опирающейся на методологию догматизированного исторического материализма, в которой царил классовый подход и не было места для таких категорий анализа как биологический или социальный пол. За прошедшие четверть века ситуация радикально изменилась, и теперь гендерный подход в социальных и гуманитарных науках, включая историю, обрел не только полноправие, но и популярность. То приращение исторического знания, которым современная наука обязана истории женщин и гендерной истории, переоценить невозможно.
Так или иначе в опубликованных во второй половине 1980 — начале 1990-х гг. работах по социальной историографии второй половины XX столетия, мне довелось затронуть и «женскую» и гендерную историю, которая со временем становилась все более разработанной и методологически оснащенной. Впоследствии интерес к этим сюжетам получил дополнительный импульс в связи с участием в работе над коллективным проектом по истории частной жизни (под руководством Ю.Л. Бессмертного) в середине 1990-х гг. Именно к этому времени и относится замысел этой книги, который, правда, претерпел с тех пор значительные изменения, связанные, главным образом, уже с моей педагогической практикой.
Представляя читателю эту книгу, следует, очевидно, объяснить ее не совсем традиционную структуру. В первой части книги, которая соответствует первоначальному замыслу, передо мной стояли две задачи: с одной стороны, рассмотреть становление и развитие женских и гендерных исследований в историографии тк весьма заметного социального и культурного явления современности, с другой — разработать ключевые аспекты проблемы интеграции гендерного и социального анализа в историческом исследовании. Во второй части представлены наиболее значимые результаты гендерно-исторических исследований, заставившие во многом пересмотреть сложившуюся в историографии картину европейского прошлого. При этом используется конкретно-исторический материал, относящийся кистории крупнейших западно-европейских стран, а также проводится сопоставление данных по разным регионам Европы. Особое внимание уделяется переломным эпохам европейской истории.
Конечно же, речь не идет о сколько-нибудь систематическом и последовательном изложении того поистине необъятного материала, который уже сегодня не умещается даже на страницах многотомных обобщающих изданий. Мне представлялось целесообразным в более концентрированной форме наметить довольно крупными мазками открывающиеся перед историками перспективы реинтерпретации европейского прошлого с учетом гендерного измерения.
Обобщая в этой книге свои изыскания в области проблематики и методологии женской и гендерной истории 1980— 1990-х гг., я одновременно ставила перед собой задачу разработать определенную модель учебной программы специального курса, имеющего целью раскрыть теоретические предпосылки, исследовательские подходы, методологические поиски и результаты конкретных исследований по основным направлениям и сюжетным узлам гендерной истории Европы.
Окончательная структура книги сложилась именно с учетом потребностей учебного процесса. К сожалению, традиционный консерватизм исторической профессии «прирастает» еще и консерватизмом образовательной системы. Поскольку введение в образовательные программы соответствующих специальных курсов (как и введение гендерного измерения в программы общих учебных курсов по историческим дисциплинам) наталкивается на серьезные трудности не только организационного, но и — что весьма важно — концептуального характера, я по-пыталась предложить один из возможных и, на мой взгляд, перспективных вариантов их методического решения, построенный на комбинации теоретического, историографического и проблемно-хронологического подходов (см. Часть III).
Педагогическая практика выявила насущную необходимость соединить историографический анализ с разбором оригинальных текстов, а для этого — обеспечить курс доступным комплексом первоисточников. В целях более эффективной организации учебного процесса (в том числе семинарских занятий, а также самостоятельной работы студентов) в книгу включена хрестоматия, в которой собраны тексты (или фрагменты текстов) разнохарактерных источников, отражающие главные аспекты гендерной идеологии, гендерной социализации, гендерного сознания в их историческом развитии. Кроме того, в книгу включена обширная систематизированная библиография, которая, надеюсь, будет полезна и специалистам, и тем, кто делает первые шаги в огромном исследовательском поле гендерной истории.
Завершая работу над книгой, пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность А.Л. Ястребицкой, Г.И. Зверевой, а также всем коллегам из Семинара по истории частной жизни за их доброжелательные отклики, конструктивные советы и критические замечания: без них эта книга была бы совсем другой или, быть может, вовсе не состоялась. Я также признательна А.Г. Суприянович за помощь в подборе источников.
1 Репина Л.П. «Историографическая революция» и теоретические поиски на рубеже веков// http://www.сайт/11667165/_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE %D1%80%D0%B8%D0%BE %D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA %D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E %D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BE %D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA %D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_ %D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5_ %D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE %D0%B2_Revolution_in_historiography_and_theoretical_elaborations_at_the_turn_of _the_centuries Repina Lorina P. Revolution in historiography’ and theoretical elaborations at the turn of the centuries Аннотация: Автор представляет анализ изменений, произошедших в ходе так называемой «историографической революции» на рубеже XX – XXI вв., и современное состояние исторической науки. Предметом изучения являются последствия «прививки постмодернизма» и многочислен-ных «поворотов», которые привели к радикальному обновлению в эпистемологии и методологии исторического познания, к формированию новых исследовательских моделей. Рассматриваются новые интерпретации проблемы истины и объективности в истории. Ключевые слова: «историографическая революция», история, теория, постмодернизм, «лингвистический поворот», междисциплинарность, социокультурная история, межкультурный диалог, историческая истина Summary: The author presents an analysis of the changes that occurred in the process of the so-called “revolution in historiography” at the turn of the ХХ-XXI centuries, and of the current status of historical discipline. The object of study is the consequences of the “postmodern inoculation” and of numerous “turns” that resulted in radical renovation of epistemology and methodology of historical knowledge and formation of new models of research. New interpretations of the problem of historical truth and objectivity are discussed. Keywords: “revolution in historiography”, history, theory, postmodernism, “linguistic turn”, interdisci plinarity, socio-cultural history, intercultural dialogue, historical truth Репина Лорина Петровна, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, зам. директора Института всеобщей истории РАН, заведующий Отделом историко-теоретических исследований и Центром интеллектуальной истории; [email protected] Repina Lorina P., associate member of the Russian Academy of Sciences, Dr. of Sc. (History), Professor, Vice-Director of the Institute of World History, Head of the Department of 2 Theoretical and Historical Studies and the Centre for Intellectual History; [email protected] Л. П. Репина «Историографическая революция» и теоретические поиски на рубеже веков Последние десятилетия ХХ и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями в структуре, содержании и методологии социального и гуманитарного знания, и в быстро транс-формировавшемся общем интеллектуальном контексте произошла радикальная перестройка со-временной исторической науки. «Культурный», «прагматический», «мемориальный», «визуальный», «пространственный» и другие «повороты» открыли перед исторической наукой новые перспективы: возникли новые объекты и методы исторического исследования, был вовлечен в научный оборот колоссальный массив новых источников, выработан целый ряд принципиально новых подходов к анализу источников традиционных, появились новые эффективные способы обработки информации. Масштаб произошедших сдвигов дал весомые основания охарактеризовать ситуацию в исторической науке рубежа веков как «историографическую революцию»1 Интенсивные поиски привели к созданию новых (неоклассических) интегральных моделей, построенных на принципе дополнительности микро-и макроисторического подходов, и к их использованию в конкретных исследованиях, к отходу от бинарного мышления с его противопоставлением макро - и микроистории, структур и событий, рационального и иррационального, и к стремительному расширению «территории историка». Вновь вырос интерес к исторической макроперспективе, которая все больше ориентируется на изучение экологических, эпидемиологических, демографических, культурных и интеллектуальных последствий развития глобальных взаимосвязей за последние полтысячелетия. Сформировалась новая научная дисциплина – глобальная история, опирающаяся на представление о когерентности мирового исторического процесса2. Насущные проблемы современности потребовали отказа от доминирующих моделей, которые выстраивают исторические процессы и события прошлого в европоцентристской перспективе, и обращения к мировой истории как истории действительно всеобщей, что предполагает разработку новых методик компаративного 1 Могильницкий Б.Г. История на переломе: некоторые тенденции развития современной исторической мысли // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. Б.Г.Могильницкого, И.Ю.Николаевой, Л.П.Репиной. М., 2004. С. 6. 2 О «многозначной логике» интерпретации глобальных тенденций в истории человечества см.: Хвостова К.В. Современная эпистемологическая парадигма в исторической науке. // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 10-13. 3 анализа, способных не только выявить общее и особенное, но и дать новое представление об истории человечества в ее целостности и взаимосвязанности. С другой стороны, в полной мере проявились последствия «культурного поворота», в ко-тором получили яркое отражение как небывало возросший интерес к проявлениям человеческой субъективности в прошлом и настоящем, так и стремление к ее контекстуализации на новой теоретико - методологической основе, соответствующей глобальному характеру современной цивилизации, целям развития межкультурного диалога и принципу единства в многообразии. Изучение и сопоставление картин мира, особенностей ценностных систем и содержания культурных идеалов разных исторических социумов и цивилизаций – одна из центральных проблем современной исторической науки, и эта тенденция останется ведущей, по меньшей мере, на ближайшие десятилетия, хотя в связи с экспансией и претензией на универсальность «культурной истории» перед исследователями встают новые проблемы. Отказ от «соблазнов» абсолютизации однозначно социального или же культурного детерминизма неизбежно влечет за собой труднейший «вечный» вопрос: как репрезентировать разноуровневые социокультурные общности и траектории их исторической динамики, не элиминируя уникальное и особенное в качествах и действиях составляющих эти общности индивидуальностей. Оптимизм в отношении тенденций развития исторического знания (по крайней мере, в ближайшей перспективе) внушает то обстоятельство, что сегодня заметное предпочтение в историографии отдается контекстуальным подходам, что, правда, проявляется в разных ее областях неравномерно и в модифицированных формах. Тем не менее, общий вектор, несомненно, указывает на переход от каузального объяснения к контекстуальному3. Получило широкое распространение понимание исторического контекста как ситуации, задающей не только социальные условия любой деятельности, но также конкретные вызовы и проблемы, которые требуют разрешения в рамках этой деятельности4.В широчайшем диапазоне современной социокультурной истории, наряду с обширным корпусом работ, нацеленных на анализ исторических типов, форм, различных аспектов и казусов межкультурного взаимодействия, достойное место занимают исследования проблем индивидуальной и коллективной идентичности, соотношения истории и памяти, которые сегодня привлекают внимание представителей всех социальных и гуманитарных дисциплин и создают удобную «площадку» для будущего, более методологически продуманного трансдисциплинарного сотрудничества. Эффективность той или иной из выстраиваемых историками версий методологического синтеза во многом определяется глубиной освоения 3 Сегодня как никогда актуально звучит высказанный еще в середине ХХ века тезис К. Гирца: «…Культура не является причиной, обуславливающей события, поведение, институты или процессы; это контекст (курсив мой. – Л.Р.), в котором их можно вразумительно, то есть подробно, описать». Geertz C. The Interpretation of Cultures: Se-lected Essays. N.Y., 1973. P. 14. 4 Стоит, однако, отметить, что «всеобщая контекстуализация», накладывающая необходимые ограничения на воображение историка, благоприятна для анализа статичных состояний, но противопоказана для объяснения социально исторической динамики. См.: Burke P. Varieties of Cultural History. Cambridge, 1997. 4 теорий «смежных» наук, которая (по крайней мере, до настоящего момента), была, как правило, недостаточной5. Траектория развития исторической науки в последней трети ХХ – первом десятилетии XXI века показала всю контрпродуктивность отчуждения «практикующих» историков от теоретических построений и обобщений, от серьезного анализа своего категориального аппарата и обсуждения проблем эпистемологии и методологии, которая, согласно точному определению Войцеха Вжосека, «занимается не прошлым как таковым, а его историографическим пространством и теми профессиональными гносеологическими исследовательскими методами, которые позволяют этот образ создать, а также совокупностью тех норм и принципов, которые стоят за практикой исторического исследования и его результатом, т.е. историографией»6. Рост интереса к теоретическим проблемам исторического познания был закономерным явлением в развитии исторической науки в переломный период, когда в условиях далеко зашедшей фрагментации истории резко обострилась проблема методологической самоидентификации историков, проявивших способность к продуктивному междисциплинарному диалогу, но вместе с тем сохранивших приверженность профессиональным стандартам и нормам исторической науки7. Историографическая ситуация настоящего времени свидетельствует о ярко выраженной теоретической рефлексии историков над проблемами исторического исследования и способами построения исторических текстов. Трудности познавательной переориентации и соответствующей перестройки профессиональных конвенций, необходимость теоретического осмысления собственной историографической практики осознаются ведущими историками, придерживающимися разных методологических парадигм: ведь «если история является дисциплиной, т.е. связанным способом исследования, она должна содержать в себе нечто универсальное, пронизывающее этот 5 Подробнее см.: Репина Л.П. Память о прошлом как яблоко раздора, или Еще раз о (меж)дисциплинарности // Исторический журнал: исследования. 2013. № 1 (13). С. 24 - 32. 6 Вжосек, Войцех. Методология истории как теория и история исторического мышления // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / Под. ред. Л.П. Репиной. М., 2011.С. 103. См. также: Лаптева М.П. Специфика терминологического пространства исторической науки // Там же. С. 152 -164. 7 Обстоятельный анализ «минимальных» (общеобязательных) и оптимальных» (варьирующихся в разных областях истории) профессиональных требований был дан в статье известного шведского историка Рольфа Торстендаля: Торстендаль Р. «Правильно» и «плодотворно» – критерии исторической науки// Исторические записки. М., 1995. Вып.1 (119). С. 54-73. «Как и все нормативные системы, эти нормы являются продуктами социума, то есть базируются на признании их научным сообществом». При этом минимальные требования и внутринаучные оптимальные нормы «составляют не единственные связующие звенья между материалом источника и окончательной картиной исследования. К ним также принадлежат субъективный интерес историка и его понимание смысла жизни» (Там же, С. 71). См. также: Рикёр П. Историописание и репрезентация прошлого// Анналы на рубеже веков. Антология. М., 2002. С. 39. 5 способ исследования и оправдывающее (относительную) автономию истории. Другими словами, история должна иметь теоретическое измерение. Сказанное в краткой и самой общей форме служит аргументом за теорию в истории»8. *** Несмотря на наличие внутренних предпосылок к новым «поворотам», решающий импульс этому движению был все же задан переживанием «постмодернистского вызова» исторической науке, направленного против ее представления об объекте исторического познания, который выступал в новом толковании не как нечто внешнее к познающему субъекту, а как то, что конструируется языковой и дискурсивной практикой9. Язык стал рассматриваться как смыслообразующий фактор, детерминирующий мышление и поведение: ведь именно «язык, благодаря своим “обязательным категориям” (а не только запретам) заставляет нас мыслить так, а не иначе»10. Подчеркивалась «литературность» исторических текстов, выбор жанров, построение сюжета, использование риторических и стилистических приемов, символов, образов, метафор. Таким образом, история была приравнена, с одной стороны, к литературе (и акцентирована роль эстетического критерия в оценке исторического текста), но с другой – к идеологии11. По-новому был поставлен вопрос о критериях объективности и способах контроля со стороны исследователя над собственной творческой деятельностью12. От историка потребовалось пристальнее вчитываться в 8 Мегилл А. Роль теории в историческом исследовании и историописании //Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы/ Под. ред. Л.П. Репиной. М., 2011.С. 30. 9 О взаимоотношениях постмодернизма и исторической науки см.: Clark J.C.D. Our Shadowed Present: Modernism, Postmodernism and History. L., 2003; Thompson W. Postmodernism and History. Basingstoke, 2004; и мн. др. 10 Барт Р. Избранные работы. М., 1994. С. 375. 11 Распространение приемов литературной критики на анализ исторических текстов было связано с концептуальными разработками американских гуманитариев во главе с автором «тропологической теории истории», признан-ным лидером постмодернистского теоретического и методологического обновления историографической критики Хейденом Уайтом (см.: Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002). Признавая, что «историки, которые не желают “нарративизировать” события прошлого, а хотят только “сообщать” то, что нашли в архивах “о том, что случилось в прошлом”, делают нечто отличное от того, что историки делали столетиями, “рассказывая некую историю”» Х. Уайт, вместе с тем, выражает уверенность, что аргументы историков «должны больше основываться на здравом смысле, чем быть научными, и они должны излагаться в форме нарратива, а не в форме логической демонстрации». (Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. 2005. Вып.14. С. 343-344). 12 Подробно об этом см.: Gorman J.L. The Truth of Historical Theory // Storia della storiografia. 2006. No. 48. P. 38-48. 6 тексты, использовать новые средства, чтобы раскрыть то, что скрывается за прямыми высказываниями, и расшифровать смысл на первый взгляд едва различимых изменений в языке источника, анализировать правила и способы прочтения исторического текста той аудиторией, которой он предназначался, и многое другое13. Кульминация противостояния двух полярных позиций –«лингвистической» и «объективистской», «постмодернистских критиков» и «ортодоксальных реалистов» – пришлась на рубеж 1980 – 1990-х гг., однако, итоги этой «позиционной войны» оказались не столь сокрушительными, как это представлялось, а компромиссные предложения были услышаны 14. К середине 1990 - х гг. естественный протест историков против крайностей лингвистического поворота» был конвертирован в конструктивные предложения и весомые аргументы в пользу так называемой «средней позиции», или «третьей платформы», выстроенной вокруг ставшей в настоящее время центральной концепции «исторического опыта». «Умеренные» нашли точку опоры в существовании реальности вне дискурса, независимой от представлений о ней и воздействующей на эти представления, в том, что невозможность прямого восприятия ушедшей в небытие реальности не означает полного произвола историка в ее «конструировании»15, и круг сторонников компромиссной позиции 13 Развернутый анализ языка, логики и структуры исторического нарратива см.: Кизюков С. Типы и структура исторического повествования. М., 2000. См. также монографию (особенно главы о теории нарратива и типах наррации) ведущего историка - «деконструкциониста»: Munslow A. Narrative and History. Basingstoke, 2007. 14 Сначала среди желающих найти компромисс ведущую роль играли философы, занимающиеся проблемами эпистемологии. Приоритет здесь принадлежит Ф.Р. Анкерсмиту. См. переводы его важнейших работ на русский язык: Анкерсмит Ф. Нарративная логика: семантический анализ языка историков. М., 2003; Он же. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003; Он же. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. 15 Анализ различных версий конструктивизма дал возможность констатировать его нетождественность репрезентативизму и способность «быть плодотворной основой для целого ряда других концепций истории и прошлого, включая и реалистическую концепцию, в которой ментальные конструкции являются также реальными и объективно присутствующими». См.: Тоштендаль Р. Конструктивизм и репрезентативизм в истории // Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 2000. С. 63-74. (C. 73). 7 постепенно расширялся16. В отличие от «ортодоксальных реалистов»17, историки, разделяющие «среднюю платформу», радикально переосмыслили свою практику с учетом «лингвистического поворота». Выход был найден в парадигме «новой социокультурной истории», интерпретирующей социальные процессы разных уровней сквозь призму культурных представлений, символических практик и ценностных ориентаций. Наряду с освоением приемов литературной критики, внимание было привлечено к «социальной логике текста» – к внелингвистическим характеристикам дискурса, связанным с биографическим, социально - политическим, событийным, духовным контекстами, в которых был создан текст, а также с целями, интересами и мировоззренческими ориентациями его создателя 18. Заметную роль в «пространстве возможного», ограниченном нормами исторической критики, занимают модели, базирующиеся на признании определяющей роли социального контекста в отношении всех видов коллективной деятельности (включая и языковую), и следующие в своем стремлении уйти от дихотомий «литературы и жизни», «индивида и общества» за оригинальной диалогической концепцией М.М. Бахтина 19. Индивидуальный опыт и смысловая деятельность понимаются в контексте межличностных и межгрупповых отношений внутри изучаемого социума, с учетом наличия множества так называемых «конкурентных общностей», каждая из которых может задавать индивиду свою «программу поведения» в тех или иных обстоятельствах. C одной стороны, прочтение каждого текста включает его «погружение» в контексты дискурсивных и социальных практик, которые определяют его горизонты, а с другой стороны, в каждом тексте раскрываются различные аспекты этих контекстов и обнаруживаются 16 См., например: 18-th International Congress of Historical Sciences. Montreal, 1995. P. 159-181; Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. C. 192- 205; Спигел Г. М. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма// Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 211-220. См. также: Stråth B. The Postmodern Challenge and a Modernised Social History // Societies Made up of His-tory / Eds. R. Björk, K. Molin. Edsbruk, 1996. P. 243-262; Spiegel G. The Past as Text: Theory and Practice of Medieval Historiography. Baltimore, 1997; Chartier R. On the Edge of the Cliff: History, Language, and Practices. Baltimore, 1997. См. также: Вжозек, Войцех. Интерпретация человеческих действий. Между модернизмом и постмодернизмом // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции/ Отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М., 1999. С. 152-161. 17См., например: Evans R. J. In Defence of History. L., 1997. 18Спигел Г.М. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма // Одиссей. Человек в истории. 1995. М.,1995. С. 214-219. О «генерирующей» роли логики и эстетики в конструировании исторического нарратива см.: Topolski, Jerzy . The Role of Logic and Aesthetics in Constructing Narrative Wholes in Historiography // History and Theory. 1999. Vol. 38. No. 2. P., 198-210. 19 См., в частности: Nielsen G.M. The Norms of Answerability: Social Theory between Bakhtin and Habermas. Albany, 2002. 8 присущие им противоречия и конфликты20. В изучении истории повседневности приоритет отдается анализу символических систем, и, прежде всего, лингвистических структур, посредством которых люди прошлого воспринимали реальный мир, познавали и истолковывали окружающую их действительность, осмысляли пережитое и рисовали в своем воображении будущее. В исследованиях этого рода привлекает комбинация двух познавательных стратегий: с одной стороны, пристальное внимание к «принуждению культурой», к способу конструирования смыслов и организации культурных практик, к лингвистическим средствам, с помощью которых люди представляют и постигают свой мир, а с другой – выявление активной роли действующих лиц истории и способа, которым исторический индивид – в заданных и не полностью контролируемых им обстоятельствах – мобилизует и целенаправленно использует наличествующие инструменты культуры, даже если результаты деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям. Ключевыми концептами в развернувшейся ревизии лингвистического подхода стали «опыт» (несводимый к дискурсу) и «практика». Причем именно понятию «практика», содержание которого может быть описано как совокупность осознанных и неосознанных принципов, организующих поведение, отдается предпочтение перед понятием «стратегии», которое акцентирует сознательный выбор21. Поиски новой исследовательской парадигмы привели к разработке концепций исторического развития, группирующихся вокруг разных теорий «прагматического поворота»22. Эти «теории практики» выводят на первый план действия исторических акторов в их 20 Так, в исследованиях по истории чтения «произведения в обязательном порядке включаются в те системы норм, которые устанавливают пределы, но одновременно и создают предпосылки для их производства и понимания». Шартье Р. История и литература // Одиссей. Человек в истории. 2001. М., 2001. С. 165. Изменения в привычках чтения рассматриваются как отражения крупных социальных и политических сдвигов. См., например: Reading, Society and Politics in Early Modern England / Ed. by K. Sharpe and S.N. Zwicker. Cambridge; N. Y., 2003. 21 См, например: Revel J. L’institution et le social // Les formes de l’expérience: Une autre histoire sociale / Sous la dir. de Bernard Lepetit. Paris, 1995; Biernacki R. Language and the Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // History and Theory. 2000. Vol. 39. N 3. P. 289. 22 О социальной теории практик и становлении прагматической парадигмы см.: Turner, Stephen P. The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge, and Presuppositions. Chicago, 1994; The practice turn in contemporary theory / Ed. by Theodore Schatzki et al. N.Y., 2001. Подробно о работах теоретиков «прагматического поворота» и многообразных концепциях «практики» в социальных науках см. в книге: Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб., 2008. 9 теоретических оснований. При этом не размывается граница между «фактами» и «фикциями», а авторам не изменяет вера в возможности исторического познания и стремление к той самой столь специфичной и труднодостижимой «исторической истине». Процесс переформатирования и спе-цификации современной историографии не ведет к утрате ею образа «строгой науки» с собствен-ными способами порождения нового знания. Ключевое слово здесь – именно «знание», и вся проблематика «истинности» и «объективности», а также «реальности», «исторического факта» и т.п., включена в рассуждения по поводу современных представлений об этом комплексном поня-тии. Интегрируя современные исследования по проблеме знания в философии науки, социологии знания, психологии познания, авторы решительно отвергают тезис о том, что различие между субъективными представлениями, или мнениями, с одной стороны, и знанием, с другой стороны, связаны с самим объектом познания. Они определяют знание – в соответствии с местом его формирования – как социально объективированное. И вполне последовательно отдельные типы знания – в данном случае это знание историческое – рассматриваются как равноправные формы кон-струирования социальной реальности, различающиеся специфическими характеристиками 72 Проблема исторической истины в контексте разработки логики исторического познания и построения исторических гипотез и концепций рассмотрена в многочисленных трудах К.В. Хвостовой и В.К. Финна 73 , в которых строгий логический анализ сочетается с глубоким пониманием исследовательской практики профессионального историка, а историческая истина определяется (с помощью четырехзначной логики, предполагающей наличие степеней истинности, т.е. боль-шего или меньшего правдоподобия) как плюралистическая. Представления о консенсусном характере исторической истины, как основанные на двузначной логике 74 10 подвергаются аргументированной критике. Специфику исторической истины К.В. Хвостова видит не только в плюралистичности, но и в ее условном характере, связанном «с авторским выбором и критериями постановки проблемы и с авторской эвристикой в целом. Кроме того, важнейшая отличительная черта исторической истины состоит в том, что она всегда мыслится как некоторый предел, вокруг которого по степени своего правдоподобия располагаются различные суждения, гипотезы и вы-воды отдельных ученых, акцентирующих в своих исследованиях различные стороны изучаемой ими реальности, избирающих разные методы и аргументы для обоснования своих рассужде-ний» 75 . Подчеркивается, что только при следовании твердым правилам организации историческо-го дискурса, которые включают «определение используемых понятий, характеристику постав-ленных проблем и избранной эвристики, описание использованных источников и оценку их значения для решения поставленной проблемы, можно говорить об объективности и истинности выводов» 76 . Введение в размышления о специфике исторической истины авторитетных теоретических концепций, логико - когнитивного анализа и анализа процедур формирования социального запаса знания существенно расширяет горизонты методологических дискуссий и способствует углубле-нию и развитию теоретической рефлексии над конкретной исследовательской и экспертной прак-тикой историков. 72 См.: Савельева И. М., Полетаев А. 11 В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1 –2. СПб., 2003– 2006. 73 См., в частности: Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете современных междисци- плинарных исследований. М., 1997; Финн В.К. Проблемы концептуализации и аргументации в социологическом и историческом знании // Проблемы исторического познания / Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2002. C. 11-18; Хвостова К.В. Некоторые гуманитарные аспекты проблемы уточнения исторического знания // Проблемы исторического познания / Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2002. C. 19-27; Хвостова К. В. Диалог со временем и современная количественная история // Диалог со временем. 2006. Вып. 16. С. 134 -146; Хвостова К. В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 22 12 -33; Финн В.К. Ин-теллектуальные системы и общество: идеи и понятия. М., 2007; Хвостова К.В. Актуальные проблемы историче-ского познания // Проблемы исторического познания / Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2008. С. 5- 18; и мн. др. 74 Речь идет об однозначном понимании некоторого суждения – либо как истинного, либо как ложного, когда ис-ключаются промежуточные состояния, характеризующие степени истинности и ложности. 75 Хвостова К.В. Проблема истины и объективности в исторической науке // Многоликость целого: из истории ци-вилизаций Старого и Нового Света. Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова. М., 2011. С. 37. 76 Хвостова К.В. Проблема истины и объективности в исторической науке. С. 34. *** В истории науки проявляется закономерность: периоды, характеризующиеся главным образом накоплением (в рамках определенной парадигмы) фактического материала, неизбежно сменяются периодами, когда на первый план выдвигается задача его научного осмысления и обобщения. Значение таких преимущественно рефлектирующих моментов в развитии каждой науки поистине трудно переоценить. Это время активного самопознания, переопределения пред-мета, смены целей и методов, категориально-понятийного аппарата. Вполне объяснимо, что именно тогда, когда наука становится способной взглянуть на себя со стороны, происходит пере- проверка, оттачивание и обогащение ее познавательных средств, создаются предпосылки для перехода на качественно новую ступень освоения изучаемой ею действительности. 13 БИБЛИОГРАФИЯ Анкерсмит Ф. Нарративная логика: семантический анализ языка историков. М., 2003. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. Барт Р. Избранные работы. М., 1994. Берк, Питер. Перформативный поворот в современной историографии// Одиссей. Человек в истории. 2008. М., 2008. C. 337-354. Бессмертный Ю.Л. Это странное, странное прошлое... // Диалог со временем. Вып. 3. М., 2000. С. 34-46. Бессмертный Ю.Л. Многоликая история. (Проблема интеграции микро- и макроподходов // Казус. Индиви-дуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. C. 52-61. Бессмертный Ю.Л. Иная история. (Вместо послесловия к статье П. Фридмана и Г. Спигел) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 165-177. Бессмертный Ю.Л. Индивид и понятие частной жизни в Средние века (в поисках нового подхода) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. М., 2003. C. 484-491. Бессмертный Ю.Л. О понятиях «Другой», «Чужой, «Иной» в современной социальной истории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2003. М., 2003. С. 492-496. Бессмертный Ю.Л. К изучению разрывов в интеллектуальной истории западноевропейского средневековья // Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории. М., 2000. С. 34 -36. Библер В. С. Диалог. Сознание. Культура. (Идея культуры в работах М. М. Бахтина) // Одиссей. Человек в истории. 1989. М., 1989. С. 21-59. Вжозек, Войцех. Интерпретация человеческих действий. Между модернизмом и постмодернизмом // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции / Отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М., 1999. С. 152-161. Вжосек, Войцех. Методология истории как теория и история исторического мышления //Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / Под. ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 102-115. Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб., 2008. Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М., 2005 (1 изд. – 2003). Гинзбург, Карло. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000. Гулыга А.В. История как наука // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. Доманска, Эва. Перформативный поворот в современном гуманитарном знании // Способы постижения прошлого: методология и теория исторической науки/ Отв. ред. М.А.Кукарцева. М., 2011. С. 226-235. Интервью с Хейденом Уайтом // Диалог со временем. 2005. Вып. 14. Кизюков С. Типы и структура исторического повествования. М., 2000. 14 Ким С.Г. Историческая антропология в Германии: методологические искания и историографическая практика. Томск, 2002. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск, 2002. Лаптева М.П. Специфика терминологического пространства исторической науки // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы/ Под. ред. Л.П. Репиной. М., 2011. С. 152-164. Лубский А.В.Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005. Мегилл, Аллан. Историческая эпистемология. М., 2007. Мегилл, Аллан. Роль теории в историческом исследовании и историописании // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы / Под. ред. Л.П.Репиной. М., 2011. С. 24-40. Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой, Л.П.Репиной. М., 2004. Могильницкий Б.Г. История на переломе: некоторые тенденции развития современной исторической мысли // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований / Под ред. Б.Г. Могильницкого, И.Ю. Николаевой, Л.П. Репиной. М., 2004. С. 5-22. Могильницкий Б.Г. Методология истории в системе университетского образования // Новая и новейшая история. 2003. № 6. С. 3-17. Могильницкий Б.Г. Историческая теория как форма научного познания// Историческое знание и интеллекту-альная культура. М.,2001. С. 3-7. Николаева И.Ю. Проблема методологического синтеза и верификации в истории в свете современных концепций бессознательного. Томск, 2005. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М., 1985. Репина Л.П. Комбинационные возможности микро- и макроанализа // Диалог со временем. Вып. 7. 2001. С. 61-88. Репина Л.П. Память о прошлом как яблоко раздора, или Еще раз о (меж)дисциплинарности // Исторический журнал: научные исследования. 2013. № 1 (13). С. 24-32. Рикёр П.Историописание и репрезентация прошлого // Анналы на рубеже веков. Антология. М., 2002.С. 23-41. Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004. Рикёр, Поль. Время и рассказ. Т.1. М.; СПб., 2000. Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. Т. 1 –2. СПб., 2003– 2006. Социокультурное пространство диалога / Отв. ред. Э.В. Сайко. М., 1999. Спигел Г.М. К теории среднего плана: историописание в век постмодернизма // Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. С. 211-220. Тевено, Лоран. Рациональность или социальные нормы: преодоленное противоречие? //Экономическая социология. 2001. Т.2. №1. С. 88-122. Торстендаль Р. «Правильно» и «плодотворно» – критерии исторической науки 15 // Исторические записки. М., 1995. Вып. 1 (119). С. 54-73. Тоштендаль Р. Конструктивизм и репрезентативизм в истории // Проблемы источниковедения и историографии. Материалы II Научных чтений памяти академика И.Д. Ковальченко. М., 2000. С. 63-74. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002 Финн В.К. Проблемы концептуализации и аргументации в социологическом и историческом знании // Проблемы исторического познания / Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2002. C. 11-18. Финн В.К. Интеллектуальные системы и общество: идеи и понятия. М., 2007 . Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997. Хвостова К.В.Современная эпистемологическая парадигма в исторической науке // Одиссей. Человек в ис-тории. 2000. М., 2000. Хвостова К.В. Некоторые гуманитарные аспекты проблемы уточнения исторического знания // Проблемы исторического познания / Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2002. C. 19-27. Хвостова К.В. Диалог со временем и современная количественная история // Диалог со временем. 2006. Вып. 16. С. 134-146. Хвостова К.В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 22-33. Хвостова К.В. Актуальные проблемы исторического познания // Проблемы исторического познания // Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2008. С. 5-18. Хвостова К.В. Проблема истины и объективности в исторической науке // Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света. Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова. М., 2011. С. 23-37. Шартье Р.История сегодня: сомнения, вызовы, предложения// Одиссей. Человек в истории. 1995. М., 1995. C. 192-205. Шартье Р. История и литература// Одиссей. Человек в истории. 2001. М., 2001. C. 162-175. Эксле О. Г. «Факты» и «фикции»: о текущем кризисе исторической науки // Диалог со временем. 2001. Вып. 7. С. 49-60. 18-th International Congress of Historical Sciences. Montreal, 1995. Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies / Ed. by K. Knorr-Cetina, A.V. Cicourel. Boston; L., 1981. Biernacki R. Language and the Shift from Signs to Practice in Cultural Inquiry // History and Theory. 2000. Vol. 39. No 3. Burke P. Varieties of Cultural History. Cambridge, 1997. 16 Bynum С. Wonder // American Historical Review. 1997. Vol. 102. No. 1. P. 1-26. Carr D. History, Fiction and Human Time // Symposium: History and the Limits of Interpretation. Rice University (USA). March 15-17. 1996. (http://cohesion.rice.edu/humanities/csc/conferences). Chartier R. On the Edge of the Cliff: History, Language, and Practices. Baltimore, 1997. Clark J.C.D. Our Shadowed Present: Modernism, Postmodernism and History. L., 2003. Collins R. Macro-History: Essays in Sociology of the Long Run. Stanford, 1999. Davis N. Zemon. Decentering History: Local Stories and Cultural Crossings in a Global World // History and Theory. 2011. Vol. 50. No. 2. C. 188-202. Elster J . The Cement of Society. A Study of Social Order. Cambridge, 1989. Espagne M. Les transferts culturels franco-allemands. Paris, 1999.
Данная книга является уникальной: впервые в едином комплексе рассматриваются становление исторического сознания и эволюция исторической мысли, а также процесс профессионализации исторического знания, формирования истории как научной дисциплины. Особое внимание уделяется взаимоотношениям истории с другими областями знания, наиболее распространенным концептуальным моделям исторического развития, социальным функциям истории, специфическим чертам исторического знания. В учебном пособии охарактеризованы различные формы, способы и уровни восприятия прошлого, концепции представителей исторической мысли разных эпох, выдающиеся произведения отечественных и зарубежных историков, современные дискуссии о природе, критериях достоверности, научном и общественном статусе исторического знания.
Шаг 1. Выбирайте книги в каталоге и нажимаете кнопку «Купить»;
Шаг 2. Переходите в раздел «Корзина»;
Шаг 3. Укажите необходимое количество, заполните данные в блоках Получатель и Доставка;
Шаг 4. Нажимаете кнопку «Перейти к оплате».
На данный момент приобрести печатные книги, электронные доступы или книги в подарок библиотеке на сайте ЭБС возможно только по стопроцентной предварительной оплате. После оплаты Вам будет предоставлен доступ к полному тексту учебника в рамках Электронной библиотеки или мы начинаем готовить для Вас заказ в типографии.
Внимание! Просим не менять способ оплаты по заказам. Если Вы уже выбрали какой-либо способ оплаты и не удалось совершить платеж, необходимо переоформить заказ заново и оплатить его другим удобным способом.
Оплатить заказ можно одним из предложенных способов:
- Безналичный способ:
- Банковская карта: необходимо заполнить все поля формы. Некоторые банки просят подтвердить оплату – для этого на Ваш номер телефона придет смс-код.
- Онлайн-банкинг: банки, сотрудничающие с платежным сервисом, предложат свою форму для заполнения.
Просим корректно ввести данные во все поля.
Например, для " class="text-primary">Сбербанк Онлайн требуются номер мобильного телефона и электронная почта. Для " class="text-primary">Альфа-банка потребуются логин в сервисе Альфа-Клик и электронная почта. - Электронный кошелек: если у Вас есть Яндекс-кошелек или Qiwi Wallet, Вы можете оплатить заказ через них. Для этого выберите соответствующий способ оплаты и заполните предложенные поля, затем система перенаправит Вас на страницу для подтверждения выставленного счета.
Статья подготовлена в рамках проекта «Кризисы переломных эпох в мифологии исторической памяти» по программе ОИФН РАН «Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов».
Л. П. РЕПИНА (L. P. REPINA )
Репина Л. П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти. 2012. С. 3-37.
Мемориальный поворот в современной исторической науке привел к существенному расширению предметного поля «новой культурной истории», охватившего проблематику «мест памяти» и «исторической мифологии» . Начав свой путь в исторической науке в 1980-е гг., изучение социальной, культурной, исторической памяти, а точнее – истории памяти , прочно утвердилось в качестве самостоятельного и бурно развивающегося междисциплинарного направления социогуманитарного знания на рубеже XX–XXI вв. В 1990-х гг. число исследований, сосредоточенных на изучении коллективных представлений о прошлом в разных исторических социумах, уже росло в геометрической прогрессии, охватывая обширный спектр конкретных тем и сюжетов. В тесной связи с проблематикой исторической памяти, но на первом этапе менее интенсивно, в западной историографии началась теоретическая разработка проблем исторического сознания, его структуры, форм и функций. Продвигаются, хотя и не столь быстрыми темпами, и исследования более сложного феномена исторической культуры, которая выступает как артикуляция исторического сознания общества и совокупность культурных практик индивидов и групп по отношению к прошлому, включая в себя все случаи «присутствия» прошлого в повседневной жизни .
Проблемы формирования и содержания представлений о прошлом в разных сообществах и культурах привлекают внимание представителей гуманитарных научных школ, и, несмотря на продолжающиеся дискуссии вокруг таких концептов как историческая память , историческое сознание , образы прошлого , масштабы корпуса проведенных с их использованием исследований (речь идет о так называемой «истории второго уровня»), как и полученные в них результаты, впечатляют, причем последние красноречиво свидетельствуют о самой тесной связи восприятия отдельных исторических событий, целостных образов прошлого, а также отношения к нему в исторической памяти, с социокультурным контекстом актуального настоящего.
Широко ныне распространенное понятие «историческая память» по-разному интерпретируется отдельными авторами: как одно из измерений индивидуальной и коллективной / социальной памяти; как исторический опыт, отложившийся в памяти человеческой общности (или, вернее, его символическая репрезентация); как способ сохранения и трансляции прошлого в эпоху утраты традиции; как часть социального запаса знания, существующая уже в примитивных обществах; как коллективная память о прошлом, если речь идет о группе, и как социальная память о прошлом, когда речь идет об обществе; как идеологизированная история, более всего связанная с возникновением государства-нации; в целом – как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом; наконец, просто как синоним исторического сознания.
В последние десятилетия «историческая память» стала рассматриваться, с одной стороны, как один из главных каналов передачи опыта и сведений о прошлом, а с другой – как важнейшая составляющая самоидентификации индивида и фактор, обеспечивающий идентификацию политических, этнических, национальных, конфессиональных и социальных групп, формирующегося у них чувства общности, ибо оживление разделяемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, который имеет особенное значение для конституирования и интеграции социальных групп в настоящем. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях: «Все историческое показывает человеку различные возможности. То, что когда-то было действительным, теперь, в качестве того, что он знает, является для него разнообразием путей, имеющих место порядков, основных подходов» .
Историческая память не только социально дифференцирована, она подвергается изменениям. История самых разных культурно-исторических общностей знает множество примеров «актуализации прошлого», обращения к прошлому опыту с целью его переосмысления . Интерес к прошлому составляет часть общественного сознания, а крупные события и перемены в социальных условиях, накопление и осмысление нового опыта порождают изменение этого сознания и переоценку прошлого. В сети интерактивных коммуникаций происходит постоянный отбор событий, в результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, подвергаются ре-интерпретации, обрастают новыми смыслами и превращаются в символы групповой идентичности.
Данное направление исследований опирается на анализ социального опыта, исторической ментальности и исторического сознания, которое конструирует образ прошлого, сообразуясь с запросами современности: происходящие в современном обществе перемены порождают у него новые вопросы к минувшему, и чем значительнее эти перемены, тем радикальнее изменяется образ прошлого, складывающийся в общественном сознании. При этом образы прошлого, составляющие важную часть коллективной идентичности, могут служить легитимации существующего порядка, выполняя функцию позитивной социальной ориентации, или же, наоборот, противопоставлять ему идеал утраченного «золотого века», формируя специфическую матрицу негативного восприятия происходящего. Посредством трансляции накопленного опыта, как позитивного, так и негативного, обеспечивается связь между поколениями.
Историческая память – сложный социокультурный феномен, связанный с осмыслением исторического опыта (реального и/или воображаемого), но одновременно она может выступать как продукт манипуляций массовым сознанием в политических целях. Одна из важнейших проблем, решение которой приобретает все большую актуальность, касается изучения представлений о происходивших в прошлом глубоких социальных трансформациях и конфликтах, поскольку эти представления играют ключевую роль в идейной полемике и политической практике. Как известно, «тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее»: речь идет об исторической легитимации как источнике власти и об использовании исторических мифов для решения политических проблем. Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее величия и позора, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордиться или стыдиться.
Содержание коллективной памяти меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: переупорядочивание или изменение коллективной памяти означает постоянное «изобретение прошлого», которое бы подходило для настоящего . Активно навязываемый аудитории образ прошлого становится нормой ее собственного представления о себе и формирует ее реальное поведение . В связи с тем, что эти образы, воспринимаемые как достоверные «воспоминания» (как «история») и составляющие значимую часть данной картины мира, играют важную роль в ориентации, самоидентификации и поведении индивидов и групп, в поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей, возникает потребность в научном анализе процесса формирования отдельных исторических мифов, их конкретных функций, среды бытования, маргинализации или реактуализации в обыденном историческом сознании, их использования и идеологической переоценки, в том числе в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах национальной истории (поскольку все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего корнями в прошлое).
Современная историография, обращаясь к проблемам исторической памяти в политическом контексте, в основном сосредоточена на разработке различных аспектов «использования прошлого» (включая технологии политического манипулирования) и «риторики памяти» (как риторики «прогресса и модернизации», так и риторики «упадка и ностальгии»), а также конкурирующих мемориальных практик и «войн памяти». Однако многообразные механизмы фиксации, накопления, сохранения, распространения, трансформации и реконструкции в исторической памяти разных поколений исторического опыта переживания народами и отдельными группами крупных исторических событий, социальных сдвигов и конфликтов, особенно в кросс-культурной и сравнительно-исторической перспективах, остаются до сих пор недостаточно изученными.
Ситуация рубежа тысячелетий, безусловно, подогрела интерес общества к этой проблематике, к тому, как люди воспринимали крупные социальные сдвиги и события, современниками или участниками которых они были, как они их оценивали, каким образом хранили информацию о событиях, так или иначе интерпретируя увиденное или пережитое. Причем сама эта ситуация многими интеллектуалами описывается в терминах конфликта , кризиса и транзита , что, естественно, стимулирует изучение исторических ситуаций и процессов исторической памяти переломных эпох, характеризуемых аналогичной констелляцией кризисных тенденций, социальными конфликтами, переживанием радикальных трансформаций, влекущих за собой ломку сложившейся системы базовых структур общественной жизни, социальных норм, идеалов и ценностей. И даже не выходя за пределы европейской истории, мы найдем множество примеров, когда проблемы настоящего времени диктовали необходимость не просто обращения к прошлому, но его кардинальной переоценки. При этом, говоря о кризисах, войнах, крупных социальных конфликтах и революциях в контексте изучения переходных эпох, исследователи все больше обращают внимание не столько на их непосредственную роль в процессе исторических преобразований, сколько на восприятие кризисных явлений и событий современниками, на трансляцию и рецепцию опыта их переживания в историческом сознании последующих поколений, на фиксацию и мифологизацию исторической памяти в так называемых «нарративах идентичности».
Помимо радикальной актуализации в свете современных общественных проблем и культурных предпочтений, высокая востребованность понятия «историческая память» во многом объясняется как его собственной «нестрогостью» и наличием множества дефиниций, так и текучестью явления, концептуализированного в исходном понятии «память», когда оно применяется не только к индивиду. Концептуальная связка «память – идентичность – травма» сегодня является одним из наиболее востребованных инструментов социально-гуманитарного анализа. Впрочем, эти понятия, заимствованные из психологии, подверглись значительному переопределению. В самом общем виде психологи обычно определяют память как отражение сознанием того, что было в прошлом опыте, путем запоминания, воспроизведения и узнавания. Но это ментальное явление, с которым имеют дело психологи, превращается в социально-ментальное или социокультурное, когда речь идет о социологическом анализе, который фокусирует внимание на коллективном, нормативном и культурно-семиотическом аспектах памяти о прошлом . Именно в таком ракурсе изучаются формы организации памяти и используется концепт травмы для анализа нарративов национальной историографии .
Исследователи, споря по многим вопросам, проявляют поразительное единодушие в определении базовых характеристик исторической памяти, которые включают избирательность, символичность, мифологичность. Действительно, память избирательна, она сохраняет лишь наиболее яркие и важные события, великие деяния, и системы коллективных представлений о прошлом различаются не только своей интерпретацией исторических событий, но и тем, какие именно события они рассматривают как исторически значимые. То, что люди помнят о прошлом – а также то, что они о нем забывают – является одним из ключевых элементов их неосознанной идеологии. При этом центральные события истории, выдающиеся личности ее героев и антигероев, сохраняемые исторической памятью, приобретают символическое значение. Но историческая память не только избирательна, не только носит символический характер, она еще и мифологична , хотя бы потому, что она определяется не отдельными элементами, входящими в ее состав, а тем способом, которым эти элементы комбинируются в целостный образ прошлого. В переработку, отбор и систематизацию опыта прошлого включены два взаимосвязанных, комплементарных и сущностно неразделимых процесса, или две стороны процесса памяти – вспоминание и забывание , а также ключевой процесс непосредственного переживания реальной ситуации настоящего и «проектирования» будущего. Как выразился Антуан Про: «Наше общество, одержимое памятью, думает, что без истории оно утратило бы свою идентичность; правильнее, однако, было бы сказать, что общество без истории неспособно строить планы» . В представлениях о будущем (в «превращенном» виде) находят отражение проблемы, которые волновали изучаемые общества в их настоящем: «Общества мобилизуют свою память и реконструируют собственное прошлое, чтобы обеспечить свое функционирование в настоящем и разрешить актуальные конфликты. Точно так же, когда они в воображении проецируют себя в будущее – голосом своих пророков, мыслителей-утопистов или авторов научной фантастики – они говорят лишь о своем настоящем, о своих устремлениях, надеждах, страхах и противоречиях современности» . Создавая свои мифологические образы, память отсылает к целому ряду прошедших событий, но они включаются в нередко противостоящие друг другу схемы, каждая из которых призвана объяснять противоречия проживаемого настоящего и соединять «вспоминаемое» прошлое с ожидаемым и конструируемым будущим: «сила памяти определяет черты идентичности и делает прошлое проекцией будущего» . Одно из наиболее удачных и содержательных определений исторической памяти ярко высвечивает ее креативную социальную роль: «Память – создательница прошлого, историческая способность находиться во времени; в универсальном значении – это отбор, хранение и воспроизведение информации… Но человеческая память не просто копит информацию, она формирует опыт, соотносит прошлое с настоящим и будущим, индивидуальное с родовым, единичное с общим, преходящее с устойчивым» .
Итак, именно исходя из заложенных в памяти схем и ранее накопленных знаний, человек ориентируется, сталкиваясь с новыми явлениями, которые ему предстоит осознать. Содержание представлений о прошлом у индивидов и групп меняется в соответствии с социальным контекстом и практическими приоритетами: переупорядочивание или изменение коллективной памяти означает постоянное конструирование (“изобретение”) прошлого, которое бы подходило для настоящего. Пьер Бурдье относил к самым типичным стратегиям конструирования «те, которые нацелены на ретроспективное реконструирование прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего» . Тезис о «реконструктивном характере» исторической памяти, подчеркивающий роль имплицированных в ней ценностных идей и связь транслируемого ею «знания о прошлом» с ситуацией настоящего момента, получил развитие в теории культурной памяти египтолога Яна Ассманна . Но роль “культурной амнезии” в стереотипизации и мифологизации представлений о недавно пережитом опыте при радикальной смене идейно-ценностных ориентиров социума, как и противостоящую ей стратегию активации эмоционально-окрашенных индивидуальных и коллективных воспоминаний, историкам еще предстоит исследовать. Впрочем, что касается категории исторического сознания, неразрывно связанного с феноменом коллективной памяти, то основополагающий новаторский вклад в ее разработку принадлежит выдающемуся отечественному историку и методологу М. А. Баргу, в концепции которого историческое сознание любой эпохи, соединяющее актуальное настоящее с прошлым и будущим, выступает как одна из важнейших и сущностных характеристик ее культуры и определяет схему организации накопленного исторического опыта .
Сегодня историческое сознание выступает как один из важнейших предметов исторического анализа. Под историческим сознанием понимается совокупность исторических знаний и оценок прошлого. Определяя изучаемую форму сознания как историческую , исходят, в первую очередь, из его содержательной , генетической и функциональной определенности, проявляющейся в том, что историческое сознание фиксирует в своих идеальных формах прошлое (содержание), формируется в процессе исторического развития (генезис ), само участвует в создании устойчивых связей между временными отрезками социальной действительности (функция ). Историческое сознание рассматривается как процесс и результат познавательной и оценочной деятельности субъекта, направленной в прошлое, и выражается в различных явлениях духовной сферы общества. Хотя в функционировании исторического сознания знание о прошлом занимает важное место, оно характеризует всего лишь одну из сторон его проявления, вторая его сторона проявляется в субъективно-эмоциональном к нему отношении . Отражая прошлое в соответствии с существующей системой ценностных установок, историческое сознание становится непосредственной предпосылкой использования приобретенного опыта для удовлетворения необходимых потребностей, но, разумеется, исторические знания не всегда выступают непосредственной предпосылкой человеческой деятельности и, соответственно, четкая корреляция между историческим опытом и характером практической деятельности отсутствует.
В современном гуманитарном знании сосуществуют параллельные типологии исторической памяти и исторического сознания. Первоначальная, наиболее примитивная форма осознания и репрезентации прошлого напрямую связана с мифом, в котором прошлое и настоящее слиты воедино, и закреплена в обрядах, ритуалах и запретах . Христианская концепция истории представляет утопическую форму сознания, с утвердившейся категорией конечного времени. «С этих пор на почве христианства уже нельзя было изучать прошлое, не думая о грядущем, равно как и нельзя было рассматривать настоящее только в связи с недавним прошлым» . Гуманисты положили начало «секуляризации историографии» и рациональной интерпретации исторического опыта (в это время появляется не просто новая форма исторического сознания, но «собственно историзированное общественное сознание» ), а научная революция XVI–XVII вв. создала методологические предпосылки для историографической революции Века Просвещения . Последующее развитие историзма в русле «научной истории», углубившее различие между элитарным (профессиональным) и обыденным (массовым) историческим сознанием, привело к утверждению схемы линейной темпоральности, соответствующей модернистскому типу исторического сознания, который называют «историческим сознанием в строгом смысле слова» . Однако историческая наука отнюдь не вытесняет предшествовавшие формы: важную роль в формировании исторического сознания продолжают играть религия, литература, искусство. Массовое сознание питается в основном старыми и новыми мифами, сохраняет склонность к традиционализму, к ностальгической идеализации прошлого или утопической вере в светлое будущее. «Историческое сознание» в строгом (нововременном) смысле слова разрушилось в период постмодерна. В целом для современной историографии характерно разделение пространств настоящего и будущего и отказ от идеи предсказания будущего.
Известный немецкий историк Йорн Рюзен рассматривает процесс изменения коллективного самосознания именно как результат кризиса исторической памяти , который наступает при столкновении исторического сознания с опытом, не укладывающимся в рамки привычных исторических представлений. Рюзен предложил типологию кризисов (нормальный , критический и катастрофический ) в зависимости от их глубины и тяжести и определяемых этим стратегий их преодоления. В схеме Рюзена мне, в отличие от других его критиков, представляется наименее убедительной модель нормального кризиса, который может быть преодолен на основе внутреннего потенциала сложившегося исторического сознания с несущественными изменениями в способах смыслообразования, характерных для данного типа исторического сознания. Второй тип («критический») ставит под сомнение возможность адекватно интерпретировать зафиксированный в исторической памяти прошлый опыт в связи с новыми потребностями и задачами. В результате преодоления подобного кризиса происходят коренные изменения, и, по сути, формируется новый тип исторического сознания. Именно подобная модель может вполне адекватно, на мой взгляд, описать кризисы исторического сознания на переломе исторических эпох. Наконец, кризис, определяемый как «катастрофический», препятствует восстановлению идентичности, ставя под сомнение саму возможность исторического смыслообразования. Такой кризис выступает как психологическая травма для переживших его субъектов. Отчуждение «катастрофического» опыта путем замалчивания или фальсификации не решает проблемы: он продолжает влиять на современную реальность, а отказ его учитывать сужает возможности адекватной постановки целей и выбора средств их достижения .
Основным способом преодоления травмирующего опыта, воспринимаемого как катастрофа, является создание исторического нарратива (повествования), посредством которого весь прошлый опыт, зафиксированный в памяти в виде отдельных событий, вновь оформляется в определенную целостность, в рамках которой эти события приобретают смысл, причем как повествование могут интерпретироваться не только письменные тексты историков, но и другие формы исторической памяти: устные предания (фольклор), обычаи, ритуалы, памятники и мемориалы. Рюзен выделяет три основные функции исторического повествования. Во-первых, исторический нарратив мобилизует опыт прошлого, запечатленный в архивах памяти, с тем чтобы настоящий опыт стал понятным, а ожидание будущего – возможным. Во-вторых, организуя внутреннее единство трех модальностей времени (прошлое – настоящее – будущее) идеей непрерывности и целостности, исторический нарратив позволяет соотнести восприятие времени с человеческими целями и ожиданиями, что актуализирует опыт прошлого, делает его значимым в настоящем и влияющим на образ будущего. Наконец, в-третьих, он служит для того, чтобы установить идентичность его авторов и слушателей, убеждая читателей в стабильности их собственного мира и их самих во временном измерении.
Путем придания событию «исторического» смысла и значения устраняется его травмирующий характер . Этой детравматизации можно достичь с помощью разных стратегий, помещающих травмирующие события в исторический контекст: это анонимизация (вместо убийств, преступлений, злодеяний говорят о «темном периоде», «злом роке» или «вторжении демонических сил» в более или менее упорядоченный мир), категоризация (обозначающая травму абстрактными понятиями, в результате чего она утрачивает свою уникальность, становясь частью истории-расказа), нормализация (травмирующие события расматриваются как нечто постоянно повторяющееся и объясняются неизменной человеческой природой), морализация (травмирующее событие приобретает характер случая-предостережения), эстетизация с акцентом на эмоционально-чувственное восприятие (предоставляет травмирующий опыт чувствам, помещая его в схемы восприятия, которые делают мир понятным и упорядоченным), телеологизация (использует тягостный опыт прошлого, чтобы исторически оправдать порядок, который обещает предотвратить его повторение или предложить защиту от него), метаисторическая рефлексия (преодолевает разрыв времени, вызванный травмой, с помощью концепта исторического изменения, отвечая на критические вопросы, касающиеся истории в целом, ее принципов осмысления и видов репрезентации), наконец, специализация (разделяет проблему на различные аспекты, которые становятся сферой исследования для различных специалистов, в результате чего «беспокоящий диссонанс полной исторической картины исчезает»). Все эти историографические стратегии могут сопровождать ментальные процедуры преодоления разрушительных черт исторического опыта, которые хорошо известны в психоанализе. Психоанализ, считает Рюзен, может научить историков тому, что существует много возможностей преобразовать бессмысленность опыта прошлого в исторический смысл. Те, кто осознает свою вовлеченность и ответственность, снимают с себя это бремя, вынося прошлое за пределы собственной истории и проецируя его на других людей (в частности, переменой ролей мучителей и жертв). Это можно сделать и путем создания картины прошлого, в которой определенная личность исчезает из отобранных фактов, как если бы она никогда (объективно) не принадлежала событиям, составляющим ее идентичность. Подобные стратегии можно наблюдать в историографии и других формах исторической культуры, но отчуждение катастрофического опыта путем замалчивания или фальсификации не решает проблемы: он продолжает влиять на современную реальность, а отказ его учитывать сужает возможности адекватной постановки целей и выбора средств их достижения.
Сознательный или неосознанный выбор той или иной стратегии преодоления кризиса выражается в типе исторического повествования, а эвристическим средством изучения принципов такого выбора может стать типология исторических нарративов. Выделяются четыре основных типа нарратива, выражающих последовательное развитие исторического сознания: 1) исторический нарратив традиционного типа, который утверждает значимость прошлых образцов поведения, воспринимаемых в настоящем и являющихся основой для будущей деятельности (при этом идентификация достигается принятием заданных культурных образцов, а время воспринимается как вечность); 2) исторический нарратив назидательного типа, который утверждает правило, являющееся обобщением конкретных случаев (здесь идентификация предполагает применение обобщенного до правил поведения конкретного опыта прошлого к современной ситуации, что делает человеческую деятельность рационально обоснованной); 3) исторический нарратив критического типа, отрицающий значимость прошлого опыта для современности путем создания альтернативных нарративов (критика позволяет освободиться от влияния прошлого и самоопределиться независимо от заданных ролей и предустановленных образцов, именно данный тип повествования служит средством перехода от одного типа исторического сознания к другому, поскольку критика создает возможность для развития исторического познания); 4) наконец, исторический нарратив генетического типа представляет осмысление сущности истории как изменения (прошлые образцы деятельности трансформируются, чтобы быть включенными в современные условия, признание изменчивости форм жизни и моральных ценностей ведет к пониманию других, а значит и более глубокому пониманию себя). В целом, историзация (в разных ее формах) представляет собой культурную стратегию преодоления разрушительных последствий травмирующего опыта .
Так, оценивая масштабы предстоящего после катастрофы пересмотра сложившихся концепций национальной истории, авторы опубликованного летом 1918 года обращения научно-педагогического Общества преподавателей истории высказались предельно точно: «Национальное сознание есть связь в традиции поколений, есть прежде всего память об общем прошлом и отсюда воля к общему будущему, чувство ответственности перед мертвыми и долга перед теми, кто придет принять наше наследство. Прошлое дает форму настоящему и жизнь будущему. Насыщенность исторической памяти и сознание ценности своей истории, вместе с волей совместно растить и множить эту ценность, делают народность нацией. Школа закрепляет эту память и формирует эту волю. Она хранит живую преемственность поколений и строит мост от лучших традиций прошлого к будущему. В школе творится нация, через школу протекает и ее распад» .
Разумеется, некоторые изменения в историческом сознании происходят не только в ситуациях катастроф. Вспомним, например, развернувшиеся в Европе в XVIII-XIX вв. широкомасштабные движения по изучению народного прошлого, фольклора и культуры, которые должны были сформировать и утвердить чувство национальной идентичности. В частности, исследования исторического сознания пореформенной России второй половины XIX века, выполненные О. Б. Леонтьевой , убедительно продемонстрировали рост интереса образованного общества к прошлому своей страны, именно потому, что в эпоху стремительных социальных перемен в нем видели ключ к пониманию ее настоящего, к формированию идентичности российского общества.
Трансформация обыденных исторических представлений повсеместно осуществлялась под воздействием всеобщего образования, и немалая роль в этом процессе принадлежала профессиональной историографии, достижения которой (в существенно упрощенном виде) транслировались в народные массы. Появлявшиеся в разных европейских странах на протяжении XIX–XX столетий многочисленные учебные пособия и учебники для средней и начальной школы предлагали ясные и доступные исторические образы, которые пробуждали в полуграмотных массах национальное самосознание. Школьные курсы истории отечества, основанные на целенаправленном отборе и упорядочении событий и фактов, сформировали фундаментальную базу национальной мифологии эпохи Модерна и, будучи влиятельным социальным институтом передачи исторического опыта, продолжают решать те же задачи, хотя и с меньшим успехом, в наш информационный век.
Травмирующие события вытесняются из коллективной памяти, если они не вписываются в структуру массового представления о себе. Коллективной оценке предшествуют как минимум два акта: выработка этой оценки и предъявление ее обществу инстанцией, обладающей достаточным авторитетом или силой, чтобы эта оценка была принята. Так формируется некий идеологический конструкт, трактующий событие в интересах властной элиты. Постепенно память о критических событиях, например о войне, принимает каноническую форму. Создается официальная картина кризиса (войны). Эта формализованная, санкционированная социумом и культивируемая «память» задает обязательный образец, что именно и как надо вспоминать (она зачастую и воспроизводится в рассказах и воспоминаниях участников событий). Однако эта память – не единственная, она сосуществует с другими образами тех же событий в памяти неофициальной, народной, групповой. И, помимо этого, существует научная историография. Историческое исследование обладает критической функцией, необходимой для того, чтобы прояснять факты. Критически их интерпретируя, историк-исследователь преобразует травму в историю, не ограничиваясь повествовательными моделями.
В этом плане особенно перспективным выглядит изучение кульминационных точек истории, ее переломных периодов, всегда отмеченных высоким общественным интересом к прошлому, острыми политическими дебатами, конкуренцией социально-политических проектов и «позиционной войной» в историографии. Именно на исторических перекрестках, когда в актуальной ситуации выбора из принципиально разных дорог исторического развития (идеальных программ переустройства общества и государства, совершенствования институтов, законов и нравов) резко возрастает роль случайностей, трудно предсказуемых воздействий социально-этического и социально-психологического факторов , происходит явственная или до поры подспудная трансформация исторического сознания. Длинный шлейф эмоциональных переживаний политических катаклизмов и социальных конфликтов, свершившихся в далеком и даже относительно недавнем прошлом, постепенно теряется в мифологизированных образах социальной и культурной памяти, создавая богатейший и поистине неисчерпаемый духовный ресурс для формирования во вновь возникающих кризисных ситуациях самого широкого спектра программ – от сугубо консервативных до радикально-революционных, не исключая, конечно, разного рода компромиссных проектов, апеллирующих к общему, разделяемому всеми группами «славному прошлому».
Блестящий анализ последовательной мифологизации Октября в постреволюционном искусстве и массовом сознании представлен в статье Н. М. Зоркой «Миф об Октябре как о венце истории» : «Отвергнув (или, точнее, замолчав, “замяв”!) поэтико-романтическую религиозную трактовку социалистической революции как некоего “Второго Пришествия”, советская идеология наделила “Октябрь” всеми признаками планетарного, вселенского события, объявила его свершением всех надежд и чаяний человечества, венцом истории, наступившим Эдемом на земле. Краеугольным камнем в фундамент советской идеологии заложен был миф. Это потребовало в дальнейшем ходе событий “оправдания мифа”. Реализовать миф о земном рае было невозможно. Миф о Начале (он же конец всего бывшего) порождал и множил все новые мифы» .
И. Е. Кознова в своем детальном исследовании памяти российского крестьянства в ХХ в. , с его огромным негативным опытом социальных катастроф, подчеркивает наряду с изменениями, привносимыми в коллективную память и модели поведения каждым новым поколением, сохранение некоторых универсальных констант и выделяет в структуре памяти представления о прошлом, настоящем, будущем и идентификационные представления, существенно расширяя само понятие социальной памяти: «…Если в начале ХХ века, борясь за землю и волю и опираясь при этом на историческую память, отыскивая в прошлом основной аргумент его настоящего, крестьянство устремлялось в будущее, то в конце ХХ века для значительной части крестьянства Центральной России надежды – не будущее, а прошлое, причем относительно недавнее – сравнительно сытное и спокойное, придававшее уверенность повседневному существованию» .
Задача перевода анализа общественно-исторических дискуссий эпохи перестройки (1985–1991 гг.) в перспективу проектного понимания воссоздаваемого прошлого была поставлена в работе Т. М. Атнашева-Мирзаянца с выходом в более широкую проблему соотношения истории и политики: «Что делает историографию, обращенную из настоящего в прошлое, так легко политизируемой? И не менее продуктивный, но редко задаваемый обратный вопрос: что делает политические представления, обращенные из настоящего в будущее, легко историзируемыми?» . Взаимопроникновение истории и политики в поле публичной истории представляется автору одним из продуктов общественного самосознания Нового времени
Согласно этой гипотезе, возможность политизации истории коренится не в преднамеренной манипуляции, а в «проектном понимании истории» как результата сознательной и эффективной деятельности коллективных или индивидуальных субъектов: «прошлое обсуждается с тем и так, чтобы предсказать и повлиять на будущее», «огромный запас исторического опыта» используется, чтобы придать «основательность всем альтернативным политическим проектам, встроенным в исторические интерпретации. Гарантом жизнеспособности политической альтернативы выступает здесь историческая реальность как прецедент: как зародыш будущего проекта или как уже готовая модель проекта, осуществленного в прошлом и подлежащего реставрации в будущем. Либо как решающее доказательство нежизнеспособности определенного проекта или его исторического бесплодия…». Важно, что речь идет не просто об использовании истории как иллюстрации для уже готовых политических проектов, а показано, как «публичная история частично задает сам политический язык и горизонт проектирования, внутри которых осмысляются политические проекты: коллективные субъекты политики, границы и возможности для будущих действий» . Автор справедливо отмечает: «В рамках модерна, как проектного отношения к истории, прошлое, похожее на иное настоящее, скорее расширяет возможность выбрать иное будущее, т.е. прошлое открывает альтернативу настоящему» . Оценивая в высшей степени позитивно включение проективного модуса в поле обсуждения социального статуса историографии, нельзя, однако, согласиться с тем, что «осознание политического проектирования в качестве… основной общественной функции исторической науки является условием большей научной самостоятельности историографии» .
Впрочем, в зарубежной историографии конца ХХ столетия можно встретить похожие высказывания о «политике истории» и «политике памяти», хотя и сделанные в других идеологических контекстах и с иными интенциями. Так, с точки зрения Ф. Фюре, «политика памяти, понятая как власть стереотипов мышления, воздействующих из прошлого на настоящее, игнорируется перед лицом другой политики, подразумевающей сознательную стратегию проектирования образов прошлого в планах будущего» . А для известного специалиста по гендерной теории и истории Джоан Скотт «создание истории – это политический акт: он не репрезентирует прошлое, а скорее создает его шаблон», и «когда мы сегодня заняты конструированием будущего, реконструкция нашего понимания прошлого может нам только помочь» . Да и гораздо раньше, еще в самом начале ХХ в. «самостоятельность» и общественная польза истории обосновывалась аналогичным образом. Признанный классик позитивистской историографии Шарль Сеньобос, поставив в 1907 г. вопрос о том, каким образом история может служить «инструментом политического воспитания», дал на него весьма красноречивый ответ: «Человек исторически образованный видел в прошлом такое количество трансформаций и даже революций, что уже не растеряется, увидев нечто подобное в настоящем. Он видел, что многие общества претерпевали глубокие изменения, из числа тех, которые знающие люди объявляли смертельными, и тем не менее им не стало от этого хуже. Этого достаточно, чтобы излечить его от страха перед изменениями и от упрямого консерватизма на манер английских тори» .
Однако для изучения роли социальной памяти о конфликтах минувшего в конкретных исторических ситуациях, требующих принятия важных политических решений, необходима более сложная модель взаимодействия представлений о прошлом, настоящем и будущем, о которой говорилось выше. Особенно ярко ее эвристичность проявляется в изучении длинной череды постреволюционных кризисов и в сопровождавшей их конкуренции проектов с использованием исторической аргументации, а также в смене образов «великих революций» в общественном сознании, истории политической мысли и профессиональной историографии.
Патрик Хаттон использовал историографию Французской революции как возможность переосмыслить «связь между воспоминанием о прошлом и его историческим пониманием», указав на прямое воздействие памяти о революции на политику Франции вплоть до Парижской коммуны 1871 года . По Хаттону, историографическая традиция, идущая от Жана Жореса к Альберу Собулю, «связывала симпатии ее представителей с более многообещающим будущим, чем предвещала сама революция» . А вот в националистической традиции память о революции была подвергнута ревизии: революция содействовала становлению современного государства, но «она уже больше не соответствовала его будущим целям» . И если для Ж. Лефевра «память о революции растворялась в традиции длительной борьбы за свободу, которая завершится осуществлением социалистического идеала» , то в целом «от Мишле к Фюре» «в историографии революции прослеживается далеко заходящее падение энтузиазма в отношении к ее событиям и персоналиям как факторам, формирующим задачи текущего дня» .
Опыт революции (в том числе и «чужой» революции), воспринятый как пример (позитивный или негативный) и урок (вдохновляющий или жестокий), во многом определял границы решений и действий индивидов и групп. П. И. Пестель в своих показаниях Следственной комиссии написал: «Ужасные происшествия, бывшие во Франции во время революции, заставили меня искать средство к избежанию подобных, и сие то произвело во мне впоследствии мысль о Временном Правлении и о его необходимости, и всегдашние мои толки о всевозможном предупреждении всякого междоусобия». А М. Ф. Орлов перед лицом прошедшего опыта «великих бедствий» Французской революции утверждал еще в декабре 1814 года: «Я вижу как из глубины этой необъятной катастрофы возникает прекрасный урок для народов и королей. Подобный пример дается для того, чтобы ему не следовать…» .
Возможно, именно осмысление опыта двух гражданских войн и Междуцарствия в Англии, дискредитировавшего революцию как средство решения социально-политических проблем, способствовало постоянным поискам компромиссов в ходе последующей истории страны, а бескровный опыт компромисса Славной революции закрепил эту установку. Отношение к событиям этого периода менялось вместе с изменением состояния общества, но история революции стала источником примеров и аргументов в ходе всего последующего его развития. Идейные споры современников, проекты наилучшего устройства общества, переживание событий и попытки их объяснить, «живая память» участников и очевидцев, запечатленная в мемуарах о событиях революции, и первые интерпретации завершенного конфликта, затем переосмысление революции разными поколениями – в течение столетия – уже в контексте нового «революционного опыта» 1688–1689 гг. и, вслед за тем, в контексте сопоставления с Французской революцией, с последующими на протяжении XIX и, особенно, ХХ века все новыми пересмотрами сложившихся историографических концепций, несущих в себе весомый заряд проективного мышления .
Революция постепенно становится мифом. Если у участников и современников исторического События–Конфликта его интерпретация соотносится с личным опытом, во «втором поколении» – с «живой памятью отцов», то «третье» и последующие поколения воспринимают уже готовые схемы , причем с удалением от События все новые интерпретационные модели накладываются на предыдущие прочтения.
Память о центральных событиях прошлого (в модели «катастрофы» или «триумфа») формирует идентичность, во многом детерминируя жизненную ситуацию настоящего. Изучение памяти о конфликтах и катастрофах ХХ века (мировые войны, Холокост, массовые репрессии и т.п.) вызывает все больший интерес у историков, и именно в связи с ролью памяти в историческом конструировании социальной (коллективной) идентичности . В обсуждении этих тем обнаруживаются две характерные черты: во-первых, наличие непримиримых противоречий между живым опытом и исторической памятью и, во-вторых, существенные межпоколенные различия в восприятиях и представлениях, в результате чего в центре внимания оказываются вопросы диахронного измерения идентичности: каким образом идентичность распространяется на несколько поколений и как она выстраивается в историческом повествовании в виде цепи значимых для каждого из них событий прошлого. Исторические события, репрезентация которых очерчивает групповую идентичность, подразделяются на несколько типов: 1) события с позитивным основанием, создающие идентичность путем утверждения ; 2) события с негативным основанием, создающие идентичность путем отрицания ; 3) события или цепь событий, которые обновляют старую идентичность. Среди этих последних различаются: а) поворотные события; б) события, делающие несостоятельными действовавшие до этого времени модели коллективной идентичности; в) события, которые обновляют действующие модели коллективной идентичности .
В построении коллективной идентичности заметны существенные поколенческие различия, проистекающие из противоречий между социальной памятью, транслируемой старшими , и жизненным опытом взаимодействия с уже изменившейся реальностью настоящего, который формирует представления младших и, соответственно, их «проектирование» прошлого и будущего. Й. Рюзен, в частности, предложил следующую типологию восприятия Холокоста в сознании трех поколений немцев в соответствии с различиями в стратегии строительства идентичности. В первом поколении с немецкой идентичностью «все в порядке»: происходит экстернализация нацистов как небольшой группы политических гангстеров. В среднем (втором) поколении, которое вступает в конфликт с родителями, возникает стремление рассмотреть Холокост в исторической перспективе, осмыслить весь период нацизма в целом как контр-событие, которое конституировало сознание негативным способом («от противного»). На основе моральных принципов и моральной критики («они – преступники, мы – другие») происходит самоидентификация с жертвами нацизма, а национальная историческая традиция замещается универсальными (общечеловеческими) нормами. Так создается новый, очень напряженный тип коллективной идентичности. В третьем поколении возникает определяющий новый элемент – «генеалогическое отношение к преступникам»: «это наши деды, да, они были другими, но в то же время они – немцы, а значит “мы”» . Так – через конфликт поколений – осуществляется реконцептуализация немецкой идентичности, и шокирующий исторический опыт «возвращается» в национальную историю.
Крупные социальные сдвиги, политические катаклизмы дают мощный импульс к изменениям в восприятии образов и оценке значимости исторических лиц и исторических событий (включая целенаправленную интеллектуальную деятельность): идет процесс трансформации коллективной памяти, который захватывает не только «живую» социальную память, память о пережитом современников и участников событий, но и глубинные пласты культурной памяти общества, сохраняемой традицией и обращенной к отдаленному прошлому. Историческая память всегда мобилизуется и актуализируется в сложные периоды жизни нации, общества или какой-либо социальной группы, когда перед ними встают новые трудные задачи или создается реальная угроза самому их существованию. Такие ситуации неоднократно возникали в истории каждой страны, этнической или социальной группы.
Рассуждая об искусственно сконструированных «биографиях наций», Б. Андерсон писал: «Сознание помещенности в мирской, последовательно поступательный поток времени, со всей вытекающей отсюда непрерывностью, но вместе с тем и с “забвением” переживания этой непрерывности – продуктом разрывов, произошедших на исходе XVIII века, – рождает потребность в нарративе “идентичности”» . Такого рода потребности в историческом нарративе идентичности, как и яркие свидетельства разрывов в социокультурной памяти, обнаруживаются и в гораздо более ранние эпохи всемирной истории .
Изучая последующее за кризисами историописание можно видеть, что целостность мифологического полотна памяти с течением времени (при отсутствии катастроф глобального масштаба), как правило, восстанавливалась. Выдающийся британский историк и философ Герберт Баттерфилд в своей книге «Англичанин и его история» писал: «Всегда, даже погружаясь в море перемен и нововведений, Англия не прерывала связи со своими традициями… Мы были благоразумны, ибо были внимательны ко всему, что связывает прошлое и настоящее воедино, и когда случались великие переломы – например, во время Реформации или Гражданских войн – последующее поколение делало все возможное, чтобы устранить дыры и прорехи, проделанные ими в ткани нашей истории. Англичане, жившие сразу же после этого, как бы возвращались с иголкой назад и тысячью мелких стежков вновь пришивали настоящее к прошлому. Вот почему мы стали страной традиций и живая преемственность постоянно сохраняется в нашей истории» . Эту мысль развивает и вносит в нее новые акценты С.А. Экштут: «У истории есть свои точки разрыва, точки забвения, точки вытеснения исторической памяти. На её страницах наряду с неизученным и таинственным так много невысказанного и недоговоренного. Белые пятна чередуются с фигурами умолчания. Те и другие свидетельствуют о разрыве памяти. И далеко не всегда профессиональный историк способен сшить этот разрыв. Более того, иногда именно он – сознательно или бессознательно прибегая ко лжи и извращая исторические события, – усиливает этот разрыв и способствует окончательному вытеснению из мира нежелательных остатков недавнего прошлого» .
В поддержании и «переформатировании» коллективной идентичности при динамичных общественных сдвигах чрезвычайно велика роль, которую играют имеющие глубокие корни национальные историографические традиции. В связи с этим возникает потребность в анализе не только формирующих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания, их конкретных функций, их маргинализации или реактуализации, но также их использования и идеологической переоценки в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая «национальную историю» как форму профессионального историописания, в которой на разных этапах развития общества создается новый образ единого национального прошлого, соответствующий запросам своего времени.
Сочетание познавательно-критической и национально-патриотической функций позволяло «научным» версиям прошлого вносить весомую лепту в укрепление национального самосознания. Сами законы жанра «биографии нации» требуют драматического развертывания и сюжетной завершенности событийного ряда, сходящегося к субъекту идентификации и демонстрирующего ключевые «места памяти» и символы «общей судьбы». Национальная история «чаще всего является фактически автобиографией народа. Другие участники истории оказываются для нее лишь фоном, контекстом… В результате национальные историографии состоят в многовековом диалоге (споре, иногда конфликте) этноцентризмов» .
Центральными структурообразующими элементами и ключевыми моментами этнической идентификации в мощном силовом поле культурной традиции, имеющей коммуникативную природу, являются этногенетический миф – миф об общем происхождении («общем предке»), представление об особой территории, признаваемой «исторической родиной», и общем групповом прошлом (неважно – реальном или предполагаемом) составляющих осознаваемую общность индивидов (живых и ушедших в Лету). В рамках цельного исторического полотна мифы о происхождении, месте обитания и расселения, об общих предках, культурных героях, славных предводителях и мудрых правителях древности, о «судьбоносных» событиях общего прошлого, запечатленные в «преданьях старины глубокой» и постоянно воспроизводимые в ритуалах, символах и текстах, выступают как основа любой этноцентристской идентификации. Представления о прошлом, и часто об очень далеком прошлом, подчеркивающие непрерывность и глубокие корни национальной традиции, выступают также как важный фактор национальной идентичности, которая складывается в эпоху Модерна из этнокультурной и территориально-государственной составляющих. Так, в центре исследований В. А. Шнирельмана, посвященных актуальной современности, находится именно «образ далекого прошлого народов», поскольку «огромное значение имеют те ключевые периоды в жизни современного общества, когда история кардинально пересматривается, и нам важно понять, что это за моменты, почему они требуют такого трепетного отношения к истории и как именно социально-политическая обстановка влияет на создаваемые новые образы далекого прошлого» . При этом речь может идти не только о воспроизведении или переозначивании старых мифов, но и о рождении новых этноцентристских мифов (в контексте нового «нарратива идентичности»), призванных четко очертить границы «своей» общности, выделив ее из более широкого территориально-политического образования или объединив несколько таких образований .
Национальная идея, более века определявшая тематику исторических сочинений в жанре «отечественной истории», по-разному воплощалась в государствах различного типа: в моноэтничных и полиэтничных нациях-государствах. В условиях динамичных общественных сдвигов апелляции к «корням» и концепции неизменной идентичности способны укрепить представление о национальной «самобытности» и даже исключительности (в том числе по линии «цивилизация» – «варварство», или же в актуализированной форме «столкновения цивилизаций»). В связи с этим возникает потребность в анализе не только формирующих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания, их конкретных функций, их маргинализации или реактуализации, но также их использования и идеологической переоценки в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах, включая «национальную историю» как форму профессионального историописания, в которой на разных этапах развития общества создается новый образ единого национального прошлого, соответствующий запросам своего времени.
Социальная функция «национальных историй» давно известна: ведь «без осознания общего прошлого люди вряд ли бы согласились проявлять лояльность к всеобъемлющим абстракциям» . Представления о прошлом, подчеркивающие непрерывность и глубокие корни национальной традиции, выступают как важный фактор национальной идентичности, которая складывается в эпоху Модерна и затем более века продолжает подпитываться сочинениями профессиональных историков в жанре академической «национальной историографии». Сочетание познавательно-критической и национально-патриотической функций позволяло «научным» версиям прошлого вносить весомую лепту в укрепление национального самосознания. Чрезвычайно важной оказалась роль транслируемых в учебную литературу интеллектуальных конструктов исторической науки Нового и Новейшего времени в формировании общегосударственной идентичности и идеологии национализма, мобилизации национальных движений .
Господствовавшая в европейской историографии XIX века идея прогресса обосновывала позитивное освещение стратегии «присоединения» и «причисления» небольших народов к более крупным нациям с точки зрения перспектив общего развития . При этом в полиэтничных странах, не говоря уже об империях, этноцентрическая история и национально-государственная (с разной степенью «национализма») история, выступающие в логике традиционных «мастер-нарративов», могли вступать в диссонанс, акцентируя негативные различия («образ врага»), противостояние, напряженность и открытый конфликт.
Марк Ферро в свое время убедительно показал, что учебные тексты, которые используются в разных странах для обучения молодежи, нередко трактуют одни и те же исторические факты весьма по-разному, в зависимости от национальных интересов . Впрочем, и в XXI в. следы жесткого взаимного неприятия (особенно в отношении соседних стран и народов), россыпь «табуированных тем» и неистребимая живучесть этноцентристских мифов в национальных учебных программах, воспитывающие в подрастающих гражданах чувство патриотизма, вызывают у историков и педагогов ощущение серьезной угрозы процессу европейской интеграции . И здесь важно не только педалирование триумфального прошлого или ситуаций исторических трагедий национального унижения, но и блокада пластов памяти о позорном прошлом, использование значимых умолчаний для конструирования приемлемой картины прошлого. Нередко в публичной полемике формируются соперничающие модели национальной идентичности, соотносимые с разными типами мировоззрения и ценностными ориентациями, с разными картинами прошлого и проектами будущего, с разными политическими и прагматическими целями.
В чем же отличие «истории историков» от других репрезентаций прошлого? История как наука стремится к достоверности представления о прошлом, к тому, чтобы знания о нем не ограничивались тем, что является актуальным в данный момент настоящего. В то время как социальная память продолжает создавать интерпретации, удовлетворяющие новым социально-политическим потребностям, в исторической науке господствует подход, состоящий в том, что прошлое ценно само по себе, и ученому следует, насколько возможно, быть выше соображений политической целесообразности. Память «…черпает силу в тех чувствах, которые она пробуждает. История же требует доводов и доказательств» . Между тем позиция историка в отношении социальной памяти не всегда последовательна, и профессиональные историки активно участвуют в процессе преобразования коллективной памяти, отвечая общественным потребностям. Здесь обнаруживается обратная связь с важнейшими этическими проблемами исторической профессии, в числе которых – как раз недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и инструментализации в каких бы то ни было целях.
Одной из важнейших задач исторической науки является демифологизация прошлого, но все же историография не обладает достаточно стойким иммунитетом от прагматических соображений. Существует немало средств социального контроля над историей – не только прямое давление или запреты, но и более мягкие, скрытые ограничения и особые “механизмы поощрения”, которые, так или иначе, воздействуют на формирование различных историографических традиций. Наблюдая ситуацию, сложившуюся в современной историографии, нельзя не заметить противоречивых тенденций: с одной стороны, в высказываниях известных историков и публичных дискуссиях ставятся вопросы о важнейших этических проблемах исторической профессии, преодолении европоцентризма, «ориентализма» и мифов о национальной исключительности, подчеркивается недопустимость «изобретения прошлого», его искажения и «инструментализации» в политических и каких-либо иных целях, а с другой стороны, активно обсуждается роль истории как фактора «социальной терапии», позволяющего нации или социальной группе справиться с переживанием «травматического исторического опыта».
Все обозначенные выше проблемы составили предмет исследования в ряде проектов, выполненных в Центре интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН с 2000 г. Собранный в коллективном труде «История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени» разнообразный исторический материал, охватывающий более двух тысячелетий, продемонстрировал самую тесную связь восприятия исторических событий с явлениями социальными: с расширением культурных контактов и глубокими переменами в условиях жизни общества менялись приоритеты исторической памяти, интерпретации и оценки ключевых явлений и событий, пантеон героев и т. д. Действовали разные каналы трансляции социальной памяти о прошлом: устные воспоминания, легенды и предания, различного рода записи и документы, монументальные памятники, празднества, сценические представления и т.п. Такую роль играла, например, концепция «вечного Рима» как в языческих, так и в христианских сочинениях переходной эпохи от поздней Античности к Средневековью, обеспечивших преемственность универсалистской идеи, средневековые модификации которой нашли отражение в империи Карла Великого, Священной Римской империи германской нации, в теократических притязаниях папства, а также в концепциях «второго» и «третьего» Рима. Переход к Новому времени дал мощный толчок развитию исторического сознания и формированию новой исторической культуры.
Масштабный компаративный проект «Образы времени и исторические представления в цивилизационном контексте: Россия – Восток – Запад» имел целью разработать ключевые аспекты поставленной проблемы на конкретном материале разных регионов Западной Европы, России и стран Востока, исследовать как наличествующие культурные универсалии (при всем плюрализме исторических культур и специфике траекторий их развития), так и цивилизационные особенности, а также их преломление на различных этапах развития социумов. Для получения в конкретных исследованиях сопоставимых результатов был выделен ряд ключевых категорий и параметров, включая такие фундаментальные аспекты исторического сознания, как его укорененность в историческом опыте, нормативно-ценностный характер, признание – в разной степени и в разных терминах – различия между прошлым и настоящим и понимание истории как процесса – связи между событиями во времени . Были исследованы формы исторического сознания и способы конструирования образов прошлого, особенности функционирования исторических легенд и мифов, множественные интерпретации и способы описания событий, различные модели репрезентации прошлого и типы исторического дискурса, способы конструирования национального прошлого, мемориальные практики и модели историописания, процессы трансляции, взаимодействия и контаминации историографических традиций в обширных культурных ареалах на Западе Европы, в России и в странах Востока. Показано, как представители различных цивилизационных систем интерпретировали свое прошлое, осмысляя настоящее, закрепляя старые идеалы, нормы, поведенческие каноны, героические образцы или выдвигая новые жизненные ориентиры и намечая картины будущего; насколько осмысленны и универсальны были используемые ими понятия и категории, как были связаны эти образы, суждения и оценки с жизненными приоритетами, с глубиной и вектором исторической памяти и многое другое.
Некоторые итоги третьего проекта («Кризисы переломных эпох в мифологии исторической памяти»), направленного на комплексное изучение способов осмысления опыта социальных конфликтов и катастроф, их последующей передачи и превращения в культурно-историческую память, представлены в настоящем издании.
Библиография такого рода исследований, начиная с новаторского проекта Пьера Нора (см.: Les Lieux de Mémoire. Ed. P. Nora. T. 1–7. P., 1984–1992), насчитывает уже сотни книг и статей. При этом огромный ее массив составляют работы, анализирующие память о травматических событиях XX века.
Подробно об этом см.: Репина Л. П . Историческая память и современная историография // Новая и Новейшая история. 2004. № 5. С. 33-45; Эксле О. Г . “История памяти” – новая парадигма исторической науки // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2011. С. 75-90. Высоко оценивая эвристический потенциал memory studies , Эксле справедливо предостерегает энтузиастов нового подхода от его абсолютизации: «Концепция “истории памяти” отнюдь не должна заменить собой все другие формы исторического познания, она комплементарна по отношению к ним и должна дополнять их» (C. 90).
Rüsen J. Was ist Geschichtskultur? Überlegungen zu einer neuen Art, über Geschichte nachzudenken // Historische Faszination: Geschichtskultur heute / K. Füßmann, H. T. Grütter, J. Rüsen. Köln, 1994. S. 5–7. Это направление исторической науки, возникшее под непосредственным влиянием изучения картин мира в рамках истории ментальностей, постепенно расширило свои методологические основания. Подробнее об этом см.: Репина Л. П. Историческая культура как предмет исследования // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. C. 5-18.
Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 115.
«Нельзя изменить фактическую вещную сторону прошлого, но смысловая, выразительная, говорящая сторона может быть изменена, ибо она незавершима и не совпадает сама с собой (она свободна)». Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 430.
В свое время на этот счет очень точно и емко высказался выдающийся британский историк Кристофер Хилл: «Мы сформированы нашим прошлым, но с нашей выгодной позиции в настоящем мы постоянно придаем новую форму тому прошлому, которое формирует нас». Hill C. History and the Present. L., 1989. P. 29.
Здесь уместно вспомнить слова Ю. М. Лотмана о том, что даже если «такого рода текст расходится с очевидной и известной аудитории жизненной реальностью, то сомнению подвергается не он, а сама эта реальность, вплоть до объявления ее несуществующей». Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. С. 368.
Нечеткость понятия «историческая память» вызывает вполне объяснимую неудовлетворенность и стремление найти ему альтернативу у сторонников более строгих теоретических принципов концептуализации. См. Савельева И. М. , Полетаев А. В. «Историческая память»: к вопросу о границах понятия // Феномен прошлого. М., 2005. С. 170-220. В частности, признавая правомерность применения понятия «историческая память» для описания конвенциональных образов событий прошлого, авторы указывают на некорректность экстраполяции культурно-антропологического подхода к коллективной памяти на современное общество с его структурами массового общего и специального образования и Интернет и предпочитают использовать термин социальные (коллективные) представления о прошлом. – Там же. С. 216, 218.
Такой подход уже доказал свою высокую продуктивность. См., например: Zerubavel , Eviatar . Social Memories: Steps to a Sociology of the Past // Qualitative Sociology. 1996. Vol. 19. N 3. P. 283-300; Idem . Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology. Cambridge (Mass.), 1997; Idem . Time Maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past. Chicago, 2003; Idem . The Social Marking of the Past: Toward a Socio-Semiotics of Memory // Matters of Culture: Cultural Sociology in Practice / Ed. by R. Friedland and J. Mohr. Cambridge, 2004. P. 184-195.
Ассманн Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
Барг М. А. Историческое сознание как проблема историографии // Вопросы истории. 1982. № 12. С. 49-66.
Барг М. А. Эпохи и идеи. М., 1987. С. 167.
Барг М. А. Эпохи и идеи. С. 305-323.
В одной из своих лекций В. А. Шкуратов предложил аналогичную по смыслу типологию исторической памяти: а) архаическая память, характеризуемая цикличностью и отсутствием представления о линейном времени, растворяющая индивидуальный опыт в архетипическом настоящем, т. е. в вечности; б) традиционная память, с понятием оси времен, но по-прежнему архетипической связью между прошлым и будущим (сотворение мира и конец света); в) современная (модерная), встраивающая человеческий опыт в линейное время от настоящего к прошлому и будущему и лишающая историю аксиологической окраски; г) постсовременная, или постмодерная, с противоположной последовательностью временных модальностей «будущее – настоящее – прошлое»: мы конструируем свое прошлое, которое приходит к нам из будущего (через улавливаемые тенденции в настоящем). Позволю себе продолжить это рассуждение: каждому историческому типу памяти соответствует определенная форма исторического сознания: архаической памяти – миф, традиционной – утопия, модерной – историческая наука, или научная история.
Rüsen J. Studies in Metahistory. Pretoria, 1993; Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти) // Диалог со временем. Вып. 7. М., 2001. С. 8–26. См. также: Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность. С. 38-62.
«Историзация» является порождающим смысл и значение взаимоотношением событий во времени, которое соединяет ситуацию сегодняшнего дня с опытом прошлого таким образом, что из хода изменений от прошлого к настоящему можно наметить будущую перспективу человеческой деятельности. Об историзации катастрофического опыта тотальных войн ХХ столетия см., в частности: Опыт мировых войн в истории России / Под ред. И. В. Нарского, О. С. Нагорной, О. Ю. Никоновой, Ю. Ю. Хмелевской Челябинск, 2007.
Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность. С. 56–60. При сопоставлении становится очевидным, что отличаясь терминологически, типология Рюзена весьма сходна «по духу» с рассуждениями М. А. Барга о смене типов «исторического письма» и «схем организации исторического опыта». Ср.: Барг М. А. ↩ Лабутина Т. Л. Английские революции XVII века в оценках ранних просветителей // Clio Moderna. Зарубежная история и историография. Вып. 4. Казань, 2003. С. 53-61; Эрлихсон И. М . Английская общественная мысль второй половины XVII века. М., 2007.
Подробнее об этом см. в книге: Английская революция середины XVII века: К 350-летию. М., 1991.
См.: Репина Л. П. Конфликты в исторической памяти поколений: к постановке проблемы // Конфликты и компромиссы в социокультурном контексте. М., 2006. С. 62.
См., например: Борозняк А. И. Искупление. Нужен ли России германский опыт преодоления тоталитарного прошлого. М., 1999; Он же . Против забвения. Как немецкие школьники сохраняют память о трагедии советских пленных и остарбайтеров. М., 2006.
Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность. С. 52-54. См., например, анализ мифологизации событий польской истории в национальной памяти и историографии: Domanska, Ewa . (Re)creative Myths and Constructed History. The Case of Poland // Myth and Memory in the Construction of Community: Historical Patterns in Europe and Beyond / Ed. by Bo Stråth. Brussels, 2000. P. 249-262.
Подробнее см.: Репина Л. П. Время, история, память (ключевые проблемы историографии на XIX Конгрессе МКИН) // Диалог со временем. Вып. 3. М., 2000. С. 5–14. Несколько в ином аспекте рассматривает проблему памяти поколений С. А. Экштут: «В наше время резко сократился временной лаг между моментом совершения какого-либо события и началом его изучения учеными, он вполне сопоставим с периодом активной жизнедеятельности одного человеческого поколения. «Историк знакомится с рассекреченными документами, в которых идет речь о событиях новейшей истории и их, скрытых от взглядов современников механизмах, что побуждает его решать непростые этические проблемы: еще живы непосредственные свидетели недавнего прошлого, болезненно переживающие сам факт происходящей на их глазах переоценки былых абсолютных ценностей. Смерть еще не собрала свою жатву, а специалист по новейшей истории уже начинает и завершает свой труд – и ему предстоит не только встреча с читателями, но и общение с ветеранами…». Экштут С. А. Битвы за храм Мнемозины. СПб., 2003. С. 33.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 222. В иной перспективе тема этнических, и национальных идентичностей в их темпоральном преломлении рассматривается в книге: Friese Н. Identities: Time, Difference and Boundaries. N.Y.; Oxford, 2002.
Среди этнополитических мифов Средневековья ярчайшим примером является «миф о троянском происхождении» («легенда о Трое»), роль которого в «конструировании» идентичности народов Западной Европы неоспорима. См.: Маслов А. Н. Легенда о Троянской войне в средневековой западной традиции / Диалоги со временем: Память о прошлом в контексте истории. С. 410-446. См. также: Smith A. D. Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity. Oxford, 2003.
Butterfield H. Englishman and his history. L., 1944. P. 5.
Экштут С. А. Битвы за храм Мнемозины. С. 103.
Вжосек, Войцех . Классическая историография как носитель национальной (националистической) идеи // Диалог со временем. 2010. Вып. 30. С. 10-11.
Шнирельман В. А. Войны памяти. М., 2003. С. 26.
Кстати, некоторые универсальные компоненты современных этноцентристских версий прошлого, как то: «миф об автохтонности», «миф о прародине», «миф о лингвистической преемственности», «миф об этнической семье», «миф о славных предках», «миф о культуртрегерстве», «миф об этнической однородности», «миф о заклятом враге», «миф об этническом единстве» (Шнирельман В.А. Национальные символы, этно-исторические мифы и этнополитика // Теоретические проблемы исторических исследований. Вып. 2. М., 1999. С. 118–147), имеют свои прототипы в исторических сочинениях и официальных документах многих предшествующих эпох.
Тош Дж. Стремление к истине. М., 2000. С. 13.
См.: Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. Впрочем, идея нации владела умами и гораздо раньше (Armstrong J. A. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982). Богатейший конкретный материал, отражающий развитие национальных идей, национального сознания и разных вариантов идеологии национализма в Западной Европе, представлен в коллективной монографии: Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Отв. ред. В. С. Бондарчук. М., 2005.
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. С. 54-62.
Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992.
Approaches to European Historical Consciousness – Reflections and Provocations / Ed. by Sharon MacDonald. Hamburg, 2000; Phillips P. History Teaching, Nationhood and the State: A Study in Education Politics. L., 2000. См. также: Lowenthal D. Possessed by the Past. The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge, 1998. Примечательно, что даже под маркой академической «глобальной истории» иногда проявляется «скрытый этноцентризм» в виде исключения не-европейских примеров. См. об этом: Rüsen J. How to overcome ethnocentrism: Approaches to a culture of recognition by history in the twenty-first century // History and Theory. 2004. Theme Issue 43. P. 118-129.
Про А. Двенадцать уроков по истории. С. 319.
См.: История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени (М., 2006).
Научные результаты данного проекта нашли свое отражение в коллективном труде «Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад» (М., 2010).