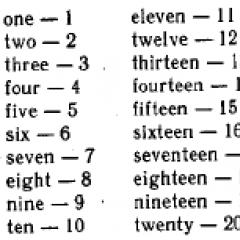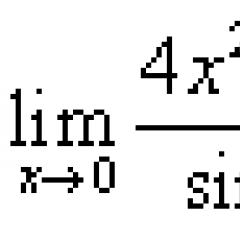В н татищев ведущие проблемы. В
МИРАЖ КОНСТИТУЦИИ
В конечном счете порядок, и только порядок, создает свободу. Беспорядок создает рабство.
Ш. Пеги
Где нет общности интересов, там не может быть единства целей, не говоря уже о единстве действий.
Ф. Энгельс
Правление Петра II не сулило ничего хорошего Российскому государству. Это сознавали все трезвомыслящие деятели даже из лагеря сторонников юного царя. Не случайно после смерти Петра II даже Долгорукие отказались поддержать аферу бывшего царского любимца Ивана Алексеевича Долгорукого с подложным завещанием в пользу своей сестры - невесты царя - Екатерины Алексеевны. Неизбежный спутник абсолютизма - фаворитизм - все ярче проявлялся в последние два года пребывания на престоле склонного к развлечениям юного монарха, пробуждая желание поставить монаршим капризам какие-то пределы. В конечном счете от фаворитизма могли пострадать все, хотя очень многим и хотелось попасть в число фаворитов. Поэтому, когда Петр II накануне своей свадьбы скончался, вопрос о дальнейшем правлении стал стихийно обсуждаться в разных слоях высшего общества.
Петр II умер в ночь на 19 января 1730 года. В Москве в это время находились не только высшие правительственные органы, переехавшие сюда несколько лет назад, но и большое число провинциальных дворян, собравшихся на свадьбу императора. Немедленно поползли слухи, что прежнего самодержавия не будет. Воспринимали эти слухи различно. Многие боялись того, что вместо одного плохого появится другое - худшее. В кругах мелкого дворянства велись разговоры, подобные записанным саксонским посланником У. Л. Лефортом: "Знатные предполагают ограничить деспотизм и самодержавие... кто же нам поручится, что со временем вместо одного государя не явится столько тиранов, сколько членов в совете, и что они своими притеснениями не увеличат нашего рабства". Были и иные мнения. Бригадир Козлов, приехавший в самый разгар событий из Москвы в Казань, рассказывал о предполагавшемся ограничении самодержавия с восторгом: императрица не сможет взять из казны ни табакерки, не сможет раздавать денег и волостей, приближать ко двору фаворитов. В России, по впечатлениям Козлова, появилась возможность "прямого правления государства", прямого течения дел, какого не было никогда в русской истории.
В 1730 году в России сложилась весьма благоприятная обстановка для плодотворных преобразований в государственной системе. Более на протяжении едва ли не всей дореволюционной истории подобных ситуаций не было. Вопреки опасениям определенных групп дворянства верховники (то есть члены Верховного тайного совета) не могли стать тиранами хотя бы потому, что в совете были представлены очень разные по настроениям и политическим взглядам лица. Иначе и быть не могло. Древние спартанцы и киевляне XII века устанавливали своеобразное двоевластие, избирая первые двух царей, а вторые двух князей с единственной целью - раздробления и обезврежения неизбежных корыстных устремлений власти. Но между верховниками и шляхетством, как на польский манер называли в это время дворянство, существовали действительные трения и разногласия, выразившиеся в недоверии значительных слоев дворянства Верховному тайному совету. В литературе это недоверие часто объясняется знатностью ведущих верховников. Вскоре после кончины Петра II в состав Верховного тайного совета были введены два наиболее популярных полководца русской армии: Михаил Михайлович Голицын и Владимир Васильевич Долгорукий. В результате из семи членов совета пять оказались представителями двух знатных фамилий. Дело, однако, обстояло значительно сложнее.
Трения между массой дворянства и верховниками проистекали не из-за знатности одних и незнатности других. В числе противников верховников также были представители знати - старых аристократических фамилий, вполне способных конкурировать в знатности с князьями Голицыными и Долгорукими. Так называемый "проект тринадцати" поданный в Верховный тайный совет наряду с другими дворянскими, предусматривал даже "сделать различие между старым и новым шляхетством, как это практикуется в других странах". Основная линия расхождений верховников с массой дворянства была примерно той же, что и в спорах Татищева с Мусиными-Пушкиными. При всех колебаниях Верховный тайный совет в 1727-1729 годах чаще всего принимал точку зрения Голицына, искавшего решения стоявших перед государством проблем на путях расширения (и следовательно, поощрения) торговли и предпринимательства. Косвенно это затрагивало интересы дворянства, так как тяжесть налогового обложения приходилась на крестьян - объект эксплуатации со стороны дворянства. К тому же в поисках средств правительство вынуждено было сокращать жалованье служащим-дворянам.
Отрицательную роль сыграл в событиях и способ действий Верховного тайного совета. Должно заметить, что слово "тайный", придающее учреждению как бы зловещий характер, просто отражало реальное положение: совет составлялся из первых гражданских чинов государства - действительных тайных советников. Но формулировка названия первого чина Табели о рангах была не случайной: на высшем уровне в обязанность всех чинов входило строжайшее соблюдение тайны обсуждения вопросов. Верховный тайный совет в этом отношении лишь следовал традиции, сложившейся ранее, еще в XVII веке, и принявшей подчеркнутый характер в петровское время.
Об ограничении власти будущего монарха заговорили уже на ночном заседании Верховного тайного совета 19 января. Хотя события застали верховников врасплох, их решения не были совершенно непродуманными. Даже кандидатуры возможных претендентов были обговорены предварительно, по крайней мере, между Василием Лукичом Долгоруким и Дмитрием Михайловичем Голицыным. Правда, на заседании выплывали разные кандидатуры. Но Алексея Григорьевича Долгорукого, попытавшегося было упомянуть свою дочь, обрученную с умершим князем, не поддержал никто даже из его родичей, а Владимир Васильевич Долгорукий высказался против такого предложения и резче других членов совета. Кандидатуру Анны Ивановны в совете назвал Д. М. Голицын. Но инициатива ее выдвижения, по некоторым данным, исходила от В. Л. Долгорукого. Во всяком случае, в действиях этих двух ведущих деятелей совета наблюдалось полное единодушие.
Кандидатура Анны Ивановны устраивала верховников главным образом потому, что за ней не просматривалась никакая партия и она до сих пор не проявляла себя в качестве мало-мальски активной политической фигуры. Казалось, что ее выдвижением приобретается та необходимая в данной обстановке царствующая особа, под прикрытием которой верховники смогут сохранять в своих руках всю полноту власти. Не исключено, что так бы события и развивались, если бы верховники не решили придать реальному положению вполне законный, конституционный характер. К этому располагал и самый недавний опыт Швеции.
Сословное представительство в разных странах возникает примерно в одно и то же время и при сходных обстоятельствах. Королевская власть, не имея пока бюрократического аппарата (и средств на его содержание), вынуждена была обращаться за содействием к сословиям. Представители сословий, естественно, стремились воспользоваться положением, чтобы разделить власть с монархом. В одних случаях это на более или менее длительный срок удавалось, в других - сословные органы оказывались послушным орудием в руках самодержца. В XVII веке эта борьба обостряется в Европе повсеместно. Судьбы России и Швеции в этом отношении оказываются наиболее сходными. В конце XVII века в Швеции торжествует абсолютизм. Рикстаг, по существу, без борьбы уступает всю власть королю Карлу XI. Мелкое дворянство и горожане поддерживают короля против аристократии и крупных землевладельцев.
Авторитет Карла XI в значительной мере связан был с его внешнеполитическими успехами (особенно заметными на фоне неудачных действий прежнего регентского совета). Умерший в 1697 году Карл XI оставил своему пятнадцатилетнему сыну Карлу XII столь сильный королевский аппарат власти, что никто на него даже не посмел покушаться. Карл XII оказался отличным полководцем. Однако Северную войну он в конечном счете проиграл. В довершение ко всему в 1718 году он погиб в Норвегии. Для любой государственной системы победы служат как бы оправданием даже самых нецелесообразных ее действий, поражения же, напротив, могут привести к крушению и то, что вполне еще могло бы быть жизнеспособным Менее сорока лет назад рикстаг отступал на задний план перед преуспевающим абсолютизмом. Теперь абсолютизм должен был нести ответственность за поражение. В 1719-1720 годах были разработаны постановления о форме правления, которые утвердил рикстаг в 1723 году. Власть теперь снова принадлежала сословиям, действовавшим через рикстаг. Королевская власть существенно ограничивалась.
Административный опыт Швеции использовался и во время Петра. Царя, как было сказано, в частности, интересовала система организации в Швеции коллегий. Василий Лукич Долгорукий еще в 1715 году, будучи русским посланником в Копенгагене, получил предписание ознакомиться со штатным расписанием датских коллегий: "Сколько колегиум, что каждай должность, сколько каких персон в коллегии каждой, како жалованье кому, какие ранги междо себя". Позднее, подготавливая проект коллегий, он использовал и шведский опыт.
Опыт Швеции, несомненно, помог верховникам в сжатые сроки предложить некоторые важные установления. Но дело здесь не в заимствовании, а в схожести судеб. В России тоже Земский собор, утвердивший Уложение 1649 года, не предусмотрел в этом юридическом памятнике места для себя, передав царю всю полноту власти.
Сословное представительство в России достигло наивысшего развития в трудные годы Смутного времени и в первое десятилетие после избрания на царский трон юного Михаила Романова. Но постепенно роль сословно-представительных учреждений падает. Бурные социальные потрясения "бунташного" XVII века заставляли верхи тянуться к сильной царской власти. При Петре I самодержавие достигает своеобразной вершины. Петр как бы выразил тот предел, который способен дать абсолютизм. И оказалось, что издержек было слишком много.
О содержании "Кондиций" - условий приглашения на царский трон Анны Ивановны - верховники договорились быстро. Анна соглашалась признать "уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать", "понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит". В ночь на 19 января секретарю совета Степанову продиктовали восемь пунктов, ограничивавших произвол монарха в раздаче чинов и пожалований, в наложении податей и расходах. Диктовал более других Василий Лукич, а отрабатывал "штиль", то есть придавал узаконению юридическую форму, Андрей Иванович Остерман.
Кондиции - лишь один "конституционный" документ верховников, причем не самый важный. Это даже компрометирующий их документ, так как в нем речь идет об ограничении власти императрицы в пользу только Верховного тайного совета. Именно этот документ должен был вызвать беспокойство у значительной части дворян, в том числе и знати, поскольку в нем ничего не говорилось о их месте в новой государственной системе. Между тем у верховников были предложения и на этот счет. Дворяне же о них не знали.
Кондиции являлись документом, с которым верховники обратились к Анне. К дворянскому же "всенародию" они собирались выйти с иным документом, значительно большим по размерам, чем Кондиции. Это "проект формы правления". Первым же пунктом в проекте разъяснялось, что "Верховный тайный совет состоит ни для какой собственной того собрания власти, точию для лутчей государственной пользы и управления в помощь их имп. величеств". Как и в предшествующий период в России, ограничения срока занятия должностей не предполагалось. "Упалые", то есть освободившиеся, места должны были восполняться путем выборов из "первых фамилий, из генералитета и из шляхетства, людей верных и обществу народному доброжелательных, не вспоминая об иноземцах".
Резкий курс на освобождение от засилья "иноземцев", видимо, проводил Д. М. Голицын. Но в "проекте" эта линия была приглушена. Верховники, в частности, вполне признавали полноправие Остермана, и нет никаких оснований думать, чтобы кто-то намеревался устранить его из совета. В плане ограничений для иностранцев верховники могли ссылаться и на соответствующий опыт Швеции, где вообще исключалось занятие иностранцами каких-либо должностей. Но такая отсылка нужна была разве только для постановки этого вопроса в присутствии Остермана. В Швеции-то никакого иностранного засилья никогда и не было. Другое дело Россия. Здесь некоторые отрасли хозяйства и подразделения управления были захвачены чужеземцами целиком.
"Проект" предусматривал решение и еще одной задачи, весьма беспокоившей дворянство: из одной фамилии в совет могло входить не более двух человек, "чтоб там нихто не мог вышней взять на себя силы". Это предложение означало отстранение одного из Долгоруких. По-видимому, вывести должны были Алексея Григорьевича, поскольку фельдмаршала Владимира Васильевича только что специально ввели, а Василий Лукич являлся одним из соавторов проекта.
Выбор кандидатов на "упалые" места должны были осуществлять члены Верховного тайного совета вместе с Сенатом. При рассмотрении дел совет должен был руководствоваться принципом, что "не персоны управляют закон, но закон управляет персонами, и не рассуждать ни о фамилиях, ниже о каких опасностях, токмо искать общей ползы без всякой страсти". Для разрешения всякого "нового и важного государственного дела" на заседание совета должны были приглашаться "для совета и рассуждения" Сенат, генералитет, коллежские члены и знатное шляхетство.
"Проект" в целом сохранял ту структуру власти, которая сложилась в последние годы правления Петра I, включая утвержденную в 1722 году Табель о рангах. "Для вспоможения" Верховному тайному совету оставался Сенат. Вопрос о численности его предполагалось решить дополнительно с учетом пожеланий "общества". Сенат и коллегии должны были набираться "из генералитета и знатного шляхетства".
Основным адресатом "проекта" было дворянство, которому и рассыпаются всяческие привилегии. Дворяне освобождались от службы в "подлых и нижних чинах", для них предусматривалось создать "особливые кадетцкие роты, ис которых определять по обучении прямо в обор (то есть высшие) афицеры". Предполагалось, что "все шляхетство содержано быть имеет так, как в протчих европейских государствах в надлежащем почтении". Иными словами, дворянству было обещано все, что оно требовало в своих челобитных или частных разговорах. Но дворяне ничего об этом не знали: оглашение проекта откладывалось до приезда императрицы.
Бичом времени было не раз упоминавшееся противоречие: старая система кормлений будто бы отменена, но жалованье регулярно не выплачивается. Верховники обещают строго следить за своевременной выплатой жалованья, а также за тем, чтобы повышение в чинах проводилось "по заслугам и по достоинству, а не по страстям и не по мздоимству". Высказывается пожелание "о солдатех и о матросех смотреть прилежно, как над детми отечества, дабы напрасных трудов не имели, и до обид не допускать".
Купечеству уделялся лишь один, но очень важный пункт. Решительно отвергался принцип монополии: "В торгах иметь им волю и никому в одни руки никаких товаров не давать и податми должно их облегчить". Предписывалось также "протчим всяким чинам в купечество не мешатца". В условиях феодального государства ограждение купечества от возможного вмешательства со стороны властей или дворянства вернее всего способствовало развитию торговли и промышленности. В этом пункте заметно отражение той политики, которую Голицын пытался проводить на практике в 1727-1729 годах, возглавляя Коммерц-коллегию.
Достаточно расплывчато звучало обещание: "Крестьянам податми сколько можно облехчить, а излишние расходы государственные разсмотрит". Речь шла о сокращении обложения крестьян за счет сокращения государственных расходов. Но опыт предшествующих лет показал, что с "сокращением расходов" всегда дело обстояло не лучшим образом, хотя кое-что в этом направлении все-таки делалось.
Политический смысл имело предписание: правительству "быть в Москве непременно, а в другое место никуда не переносить". Правда, объяснялось это необходимостью избежать "государственных излишних убытков" и "для исправления всему обществу домов своих и деревень". И действительно, содержание двора и учреждений обходилось в Петербурге несравнимо дороже, чем в Москве. Но дело было не столько в этом, сколько в том, что Москва олицетворяла собственно Россию и ее традиции, в то время как Петербург был именно "окном в Европу", и повернут он был как бы в противоположную сторону от России.
"Проект формы правления" являлся результатом взаимных уступок членов Верховного тайного совета. В таком виде он не отражал полностью ни взглядов Д. М. Голицына, ни убеждений В. Л. Долгорукого. Голицын имел более смелый проект политических преобразований, предусматривавший значительное возрастание роли третьего сословия. По замыслу Голицына, помимо Верховного тайного совета, учреждались три собрания: Сенат, шляхетская палата, палата городских представителей. Сенат в составе тридцати шести человек должен был рассматривать дела, представляемые совету. Шляхетская палата из двухсот человек была призвана ограждать права этого сословия от возможных посягательств со стороны Верховного тайного совета. Палата городских представителей должна была блюсти интересы третьего сословия и заведовать торговыми делами.
Именно в голицынском проекте с наибольшей полнотой учитывались и шведская конституция, и собственно русская земская практика эпохи ее наивысшего подъема. Голицын значительно далее своих коллег готов был идти навстречу пожеланиям купечества и горожан. Создание замкнутых сословных сфер в данном случае должно было ограничить дальнейшее расширение крепостнических отношений. И понятно, что этот проект даже не был вынесен на обсуждение. Слишком явно было, что он не удовлетворит дворянство, без которого любые предложения верховников были обречены на неудачу.
Верховники предусматривали и определенный порядок обсуждения проектов на пути превращения их в законодательные акты. Этой цели служил специальный документ, называемый "Способы, которыми, как видитца, порядочнее, основательнее и тверже можно сочинить и утвердить известное толь важное и полезное всему народу и государству дело". Первый пункт документа предлагал, "чтоб все великороссийского народа шляхетство, выключа иноземцев... не греческого закона и у которых деды не в России породились, согласились бы за себя и за отсутствующих единодушно вместе так, чтоб никто, никак и ничем от того согласия не отговаривался ни заслугами, ни рангом, ни старостью фамилии и чтоб всякому был один голос". Предусматривалось, следовательно, равенство всех дворян независимо от их личных заслуг и знатности рода, а также положения на служебной лестнице.
"Единодушным согласием" необходимо было избрать "ис тогож шляхетства годных и верных отечеству людей от двадцати до тридцати человек", и эти выборные должны были готовить письменные проекты, "что они вымыслить могут к ползе отечества". Заседания идут под председательством двух выборных особ, которые сами права голоса не имеют, а должны поддерживать порядок, унимать страсти в ходе заседаний. Если возникали вопросы, касающиеся других сословий, выборные от этих сословий приглашались на обсуждение. Оговаривалось, "чтоб выборные от всякого чина имели свой выбор", то есть чтобы выборы осуществлялись не сверху, со стороны властей, а в рамках сословных организаций.
Подготовив коллективное заключение, выборные от дворян должны были представить его в Сенат "и с ним советовать и согласитца". Затем все вместе направляются в Верховный тайный совет. "А как выборные, Сенат и Верховный совет о каком деле согласятца, и тогда послать с тем делом несколько особ к ее им. величеству и просить, чтоб конфирмовала" (то есть утвердила).
Предлагаемые проекты могли бы совершенно изменить политическое лицо России и существенно повлиять на ее дальнейшее социальное развитие. Даже ограничение круга полноправных в политическом отношении граждан только шляхетством в этих условиях было большим шагом вперед. К тому же хотя бы и в глухой форме говорилось и о правах других сословий (разумеется, не считая крепостных крестьян), дела которых должны были решаться с их полноправным участием. В последней оговорке, пожалуй, и сказывается влияние голицынского проекта создания сословных палат. Логика дальнейшего развития неизбежно повела бы к постепенному усилению роли третьего сословия, примерно так, как было в Швеции этого времени. Аристократия в Швеции более, чем в России, кичилась своим происхождением. Но третье сословие благодаря наличию значительных капиталов уверенно забирало в свои руки те сферы, которые давали более всего прибылей.
В 1730 году не было неотвратимой обреченности конституционных начинаний. И во всяком случае, никогда в России, вплоть до 1905 года, не было столь благоприятных условий для перехода к конституционной монархии. Просчеты верховников носили скорее тактический, чем политический характер. Едва ли не более всего верховников подвела "тайна" их заседаний, "тайна", которую каждый член совета торжественно клялся хранить независимо от любого поворота событий. Василий Лукич, вернувшись из Митавы после подписания Анной Ивановной Кондиций, резонно замечал, что надо "хотя кратко упомянуть, какие дела им (то есть выборным от дворян) поверены будут... чтоб по тому народ узнал, что к пользе народной дела начинать хотят". Верховники либо не сумели, либо не успели осуществить это предложение.
Разрабатывая проекты расширения политической роли дворянства, верховники все-таки дворянству более всего и не доверяли. Поэтому они стремились поставить его перед совершившимся фактом. Введение в состав совета двух популярнейших фельдмаршалов должно было умиротворить неспокойную, хотя и аполитичную гвардию. Фельдмаршалы без труда могли найти достаточное количество армейских полков, готовых откликнуться на их призыв. Но верховники старались представить Кондиции и прочие акты выражением воли самой императрицы. Это был большой и неоправданный риск. Такой путь обещал успех лишь в том случае, если бы императрица сама была участницей заговора. Но на это рассчитывать, конечно, не приходилось. Трудно было надеяться и на то, что удастся надежно оградить императрицу от внешнего мира. Даже о намерении верховников Анна узнала раньше от их противников, чем от них самих.
Рассчитывая на Анну Ивановну, верховники сами связали себе руки. Они теперь не могли обратиться непосредственно к дворянству. Положение особенно усугубилось после того, как 2 февраля на собрании высших чинов государства были провозглашены подписанные Анной Ивановной Кондиции. Правда, Верховный тайный совет предложил первым пяти рангам служилых чинов и титулованному дворянству подавать свои проекты. Но утверждение их автоматически переносилось в канцелярию императрицы, которая вскоре должна была прибыть в Москву. Наиболее же важные для дворянства документы совета до сведения дворянства так и не были доведены и, видимо, могли быть обнародованы лишь после утверждения их императрицей.
Таким образом, стремясь к ограничению монархии в интересах дворянства, верховники не верили сами в гражданскую подготовленность российского шляхетства, в его политическую активность и самосознание. Поэтому верховники и стремились навязать ему гражданские права и конституционное сознание сверху, императорской волей.
Дворянские проекты, возникшие независимо от верховников или же по их предложению, были значительно беднее проекта верховников. В Верховный тайный совет поступило несколько таких проектов, и в большинстве из них излагались лишь ближайшие пожелания дворянства, тогда как вопросы общего политического устройства почти не затрагивались. Почти во всех проектах ставился вопрос о необходимости расширения состава Верховного совета или же передачи его функций Сенату. В проекте И. А. Мусина-Пушкина очень резко подчеркивалось значение родовитой аристократии. "Фамильным" должна была принадлежать половина мест и в Верховном тайном совете, и в Сенате, причем к простому шляхетству причислялся даже генералитет. Различие между старым и новым шляхетством, как отмечалось, проводилось и в проекте тринадцати. В этом проекте было, в частности, положение, что "для ремесел и других низких должностей шляхетство не употреблять".
Однако если проекты дворян были бедными, то споры в дворянских собраниях рождали и довольно далеко идущие предложения. Одним из самых активных участников этих споров и был Василий Никитич Татищев, имевший и наибольшие познания, и широту суждений по сравнению со своими коллегами.
В событиях 1730 года Голицын и Татищев оказались в разных лагерях. И дело не столько в идейных расхождениях, сколько в особенностях политического расклада. В конце 20-х годов, как отмечалось, неоднократно возбуждались обвинения в адрес Феофана Прокоповича, и за обвинителями стояли представители старых княжеских фамилий, петровский кабинет-секретарь А. Макаров и другие. Прокопович раздражал многих русских отрицательным отношением к русской старине, своеобразным космополитизмом, безразличием к престижу страны на европейской арене. Но вслух о таких вещах обычно не говорили. Поэтому фигурировало обвинение в "неправославии", именно в склонности к лютеранству. Основания для этого были. В окружении Петра вообще было много лютеран. На лютеранке был женат и один из верховников, Гаврила Головкин, в результате чего в семье его дети воспитывались в лютеранском духе. Татищева никто не рискнул бы обвинить в неуважении к русской истории. Зато "неправославия", правда иного толка, у него было куда больше, нежели у Прокоповича, и Прокопович не преминул продемонстрировать это публично, отмежевавшись от некоторых весьма вольных воззрений Татищева.
О тучах, сгущавшихся над Татищевым, еще летом 1728 года сообщал брауншвейгский посланник барон фон Крамм. Крамм характеризует Татищева как одного из весьма разумных людей, великолепно знающего немецкий язык и обладающего большими познаниями в области горного и монетного дела, но почему-то попавшего в немилость к Алексею Григорьевичу Долгорукому. Под видом инспекции горных предприятий Долгорукие намеревались выслать его в Сибирь. Позднее в письме к И. А. Черкасову Татищев напоминал об этом намерении Долгоруких, которые и прямо грозили ему "виселицей и плахой".
У Антиоха Кантемира жизненные невзгоды фокусировались на личности Дмитрия Голицына. Старший брат Антиоха Константин женился на дочери Голицына и не без помощи тестя сумел воспользоваться законом о единонаследии, получив все владения отца. Антиох оказался лишенным устойчивого материального обеспечения. В значительной мере это обстоятельство и придавало его творчеству пессимистическую окраску.
К концу 20-х годов Татищева сближали с Кантемиром и Прокоповичем определенная схожесть судеб и некоторые их воззрения. Часто у них были одни и те же недруги. Но он не мог принять ту безудержную апологетику самодержавия, с которой выступали Прокопович и Кантемир. В конечном счете он оказался в числе тех, кого Прокопович также подверг резкой критике как "мятежных" соперников верховников в дележе власти.
"Мятежники" собирались в разных домах, где велись жаркие споры. Наиболее людные сходки отмечались у А. М. Черкасского, Василия Новосильцева, князя Ивана Барятинского. Существо споров Татищев изложил позднее в записке "Произвольное и согласное разсуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном". По замечанию Плеханова, "Татищев сам не знал, чего, собственно, ему хотелось: он, защищавший в теории самодержавие, пишет конституционный проект" и затем то уговаривает конституционалистов согласиться с монархистами, то готов прочитать перед Анной Ивановной конституционную челобитную дворян. М. Н. Покровский увидел в этих колебаниях даже неумение "отличить конституционную монархию от абсолютной". Но документ, по которому обычно судят о взглядах Татищева, это все-таки "согласное разсуждение", то есть коллективное мнение определенной группы дворянства. Татищев же колебался и субъективно - идеальная форма правления для России не продумывалась им ранее, - и объективно, как член определенной общественной прослойки. Известно, что уже 23 января, то есть всего через несколько дней после смерти Петра II, Татищев разыскивал и "читал кое с кем" материалы, связанные с шведской формой правления, и обещал "охотно заплатить" шведскому послу за отыскание различных постановлений рикстагов. Он шел явно в числе пионеров конституционализма, по крайней мере, до тех пор, пока (конечно, неожиданно для него) не определился выбор верховников: Анна Ивановна, с рождением которой некогда началась его "служба" при дворе.
Для правильного понимания действительных взглядов Татищева должно учитывать и еще одно обстоятельство, на которое недавно обратил внимание советский историк Г. А. Протасов. Записка составлялась уже после событий, когда самодержавие восторжествовало и Татищеву, возможно, приходилось оправдываться перед кем-то из окружения Анны. Так, на исторической справке, подводящей к существу вопроса, сказывается влияние одной из проповедей Феофана Прокоповича, записанной в 1734 году. Прокопович дал своеобразную схему русской истории, из которой следовало, что Россия всегда укреплялась самодержавием и приходила в упадок из-за его ослабления.
1734 год, возможно, и был тем временем, когда от Татищева потребовался "оправдательный" документ, о чем будет речь ниже. Позднее, в 1743 году, он отправит этот документ вместе с другими в правительствующий Сенат, что вызовет чрезвычайное раздражение его высоких членов, многие из которых и сами были в той или иной степени участниками событий 1730 года. А незадолго до смерти, по просьбе Шумахера, он направил копии их в Академию наук, благодаря чему они и дошли до нашего времени.
История записки объясняет и ее сложное строение, и внутренние противоречия, и некоторое расхождение с подлинными дворянскими проектами, сохранившимися в архивах. Татищев как бы соединяет свои рассуждения с действительным ходом событий и проектами, подлежавшими обсуждению. В ней имеется и то, что реально предлагалось в ходе горячих споров, и то, что он направлял и объяснял уже задним числом.
Записку, как отмечалось, открывает обширная историческая часть. Татищев осуждает верховников за нарушение традиционного порядка избрания монарха в случае пресечения династии. Он полагает, что ранее уже было три избрания: Бориса Годунова, Василия Шуйского и Михаила Романова. Два из них не могут служить примером: "Избрали не порядком: в первом было принуждение, во втором коварство". "А по закону естественному, - поясняет Татищев, - избрание должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других через поверенных, как такой порядок во многих государствах утвержден".
"Естественный закон" и "естественное право" - теории, зарождающиеся в Европе в условиях формирования буржуазного уклада. С наибольшей полнотой понимание их Татищев выразил в рассматриваемом ниже "Разговоре...". Здесь он касается политического раздела естественноправовых теорий, согласно которым природа человека определяла и государственное устройство: отдельные индивиды путем "общественного договора" соединялись в единый организм.
В теориях "общественного договора" вслед за Аристотелем обычно рассматривались три формы правления: монархия, аристократия, демократия. Но если, например, Феофан Прокопович решительно и однозначно решал вопрос в пользу неограниченной монархии, то рассуждение Татищева куда менее определенно. Татищев отмечает необходимость учета положения той или иной страны: "Каждая область избирает, разсмотря положение места, пространство владения, а не каждое всюду годно, или каждой власти может быть полезно".
Примечательно, что идеальной формой правления Татищев считал демократию. Но он полагал, что она осуществима лишь "в единственных градех или весьма тесных областях, где всем хозяевам домов собраться вскоре можно... а в великой области уже весьма неудобна". Демократия мыслится Татищевым как возможность обсуждения всех вопросов общим собранием граждан. Представительную же демократию он объединяет с аристократической формой правления. Это проистекало, конечно, не из того, что он не осознавал разницу между представительной демократией и реальной аристократией, характерной хотя бы для Швеции этого времени. Просто представительная демократия в его понимании на практике могла быть осуществима именно в форме аристократии.
Сам термин "аристократия" Татищев поясняет уточнением: "или избранных правительство". "Избранный" в данном случае тоже имеет двоякий характер: пользующийся правом по положению или избранный на должность. Иными словами, принципы избрания могли быть разными. Но и в том случае, если избрание было "всенародным", это было бы "аристократией", правлением "избранных".
Представительное (аристократическое) правление уступает "демократическому", но оно все-таки лучше монархического. К сожалению, оно также не везде возможно. Оно применимо лишь "в областях, хотя из неколиков градов состоящих, но от нападений неприятельских безопасных, как-то на островах и проч., а особливо если народ учением просвещен и законы хранить без принуждения прилежит, - тамо так остраго смотрения и жестокого страха не требуется".
Таким образом признается безусловная предпочтительность представительной формы правления для Скандинавии, Англии и некоторых других государств, в условиях XVIII века достаточно надежно защищенных от внешней угрозы. Эта форма была бы желательной и для других государств, если население их достаточно просвещено, привыкло следовать законам без постоянного напоминания и принуждения. Подобно Артемию Петровичу Волынскому, Татищев в России этого последнего условия не видел. Отсутствие просвещения при наличии постоянной внешней угрозы, по мнению Татищева, не оставляло выбора. Ничего хорошего в своей сущности монархия не содержит. Она несет с собой лишь "жестокий страх". Но географические и политические условия России обязывают мириться с этим как с относительно меньшим злом.
Соображения Татищева, очевидно, не лишены оснований. Позднее Энгельс также наличие или отсутствие королевской власти в странах средневековой Европы ставил в зависимость главным образом от внешнеполитических обстоятельств. В Германии, например, не сложилось сильного централизованного государства именно потому, что в этом не было потребности, поскольку она оказалась "избавленной на длительный срок от вторжений". {Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 418.} К. Маркс также связывал "централизованный деспотизм" в России с условиями ее внутреннего социального строя, "обширным протяжением территории" и "политическими судьбами, пережитыми Россией со времен монгольского нашествия". {Там же, т. 19, с. 405-406.}
"Великие и пространные государства, для многих соседей завидующих", по мнению Татищева, не могут устоять при демократической или аристократической форме правления, "особливо где народ недовольно учением просвещен, и за страх, а не из благонравия, или познания пользы и вреда, закон хранят". Для таких государств "не иначе, как само- или единовластие потребно". Политическая повседневность, полагал Татищев, давала примеры успешного действия любой из этих систем. "Голландия, Швейцария, Генуя и проч. изрядно правятся демократиею и называются республики". Аристократическая форма успешно осуществлена в Венеции. Германская империя и Польша управляются монархами вместе с аристократией. "Англия и Швеция из всех трех состоят, яко в Англии нижний парламент или камера, в Швеции сейм - представляют общенародие; верхний парламент, а в Швеции сенат - аристократию".
Зависимость форм правления от внешних обстоятельств Татищев подтверждает и примерами из всемирной истории. Так, "Рим, прежде императоров, правился аристократиею и демократиею, а в случае тяжкой войны избирал диктатора и давал ему полное единовластительство". "В трудном состоянии" к аналогичным мерам прибегают Голландия и Англия. "Из сего видим, - заключает Татищев, - что издревле утвержденные республики в случаях опасных и трудных монархию вводят, хотя и на время".
Условия России Татищев ставит в один ряд с Францией, Испанией, Турцией, Персией, Индией и Китаем, которые "яко великие государства, не могут иначе правиться, как самовластием".
Целесообразность для России самодержавия Татищев подтверждает ее историческим опытом. В этой связи он дает первую свою канву русской истории, начиная ее от скифов, имевших уже "самовластных государей". Затем период "единовластительства" определяется временем от Рюрика до Мстислава Великого (сына Владимира Мономаха), то есть со второй половины IX века до 1132 года. В результате за 250 лет "государство наше всюду распространилось".
Феодальная раздробленность привела к тому, что татары захватили власть над русскими землями, а некоторые владения Руси оказались под властью Литвы. Лишь Иван III "паки монархию возстановил, и, усилився, не токмо власть татарскую низвергнул, но многие земли у них и Литвы, ово сам, ово сын его, возвратил. И так государство прежнюю свою честь и безопасность приобрело, что продолжалось до смерти Годунова".
Разорения Смутного времени Татищев объясняет тем, что Василий Шуйский вынужден был дать боярам "запись, которою всю власть, у государя отняв, себе похитили, подобно как и ныне". В результате шведы и поляки "многие древние русские пределы отторгнули и овладели". Правда, воцарение Михаила Романова несколько выбивалось из этой схемы. Хотя его "избрание было порядочно всенародное, да с такою же записью, через что он не мог ничего учинить, но рад был покою". Ограничением самодержавия в этом случае как будто доволен более всех сам царь. И у Татищева нет оснований считать это ограничение нецелесообразным.
Восстановление самовластия Алексеем Михайловичем Татищев объясняет тем, что царь получил возможность управлять войском во время русско-польской войны. Он полагал, что именно благодаря этому были одержаны победы в войне и они были бы еще большими, если бы не противодействие "властолюбивого Никона". Торжество же самовластия и соответствующие успехи при Петре Великом "весь свет может засвидетельствовать".
По-видимому, нечто подобное Татищев излагал и в обсуждениях января - февраля 1730 года. Но в спорах выдвигались и мнения противоположные: "единовластное правительство весьма тяжко", поскольку "единому человеку власть над всем народом дать не безопасно". Опасность грозит и оттого, что царь, "как бы мудр, справедлив, кроток и прилежен ни был, безпогрешен же и во всем достаточен быть не может". В случае же если монарх "страстям своим даст волю", то от насилий страдают невинные. Другая угроза исходит от того, что именем монарха управляют временщики, и временщик "из зависти" может свирепствовать еще более, "особливо если подлородный или иноземец, то наипаче знатных и заслуживших государству ненавидит, гонит и губит, а себе ненасытно имения собирает". И наконец, третье - "вымышленная свирепым царем Иоанном Васильевичем тайная канцелярия" (то есть Преображенский приказ сыскных дел), которая постыдна перед лицом других народов и разорительна для государства.
Татищев считает все высказанные соображения основательными. Но, по его мнению, они не перекрывают положительной роли монархии для таких стран, как Россия. Он исходит из того, что монарх "не имеет причины к разорению отчизны ум свой употреблять, но паче желает для своих детей в добром порядке содержать и приумножать". Поэтому государь заинтересован в подборе советников "из людей благоразсудных, искусных и прилежных". Но против довода об опасности воцарения монарха, который "ни сам пользы не разумеет, ни совета мудрых не принимает и вред производит", у Татищева не находится возражений. Покинув надежную почву "естественного закона", Татищев вынужден уповать на смирение: поскольку возможности воцарения несмышленого монарха не предотвратить, остается "принять за божие наказание". Предполагаемых собеседников Татищев дразнил сравнением с весьма нередкой бытовой картиной: если один шляхтич "безумно" разоряет свой дом, "для того всему шляхетству волю в правлении отняв, на холопей оное положить, ведая, что никто сего не утвердит". Республиканское самосознание собеседников Татищева, конечно, не распространялось на крепостное крестьянство. Но его довод мог быть повернут и в противоположном направлении: неразумна не только абсолютная монархия, а и крепостнический порядок.
Признает Татищев и опасность временщиков: "От оных иногда государство много бед терпит". Большой вред нанесли России "неистовые временщики". Скуратов и Басманов при Иване Грозном, Милославский при Федоре Алексеевиче, Меншиков и Толстой в недавние времена. Но их как бы уравновешивают "благоразумные и верные": Мстиславский у Грозного, Морозов и Стрешнев у Алексея Михайловича, Хитрой и Языков у Федора Алексеевича, Голицын у Софьи. Эти временщики "благодарение вечное заслужили, хотя некоторые по ненависти других в несчастии жизнь окончили". В республиках положение с временщиками тоже не лучше и может стать даже более опасным, чем в монархиях.
Тайная канцелярия государство, конечно, не красит. Но дело это, полагал Татищев, неновое, поскольку таковая появилась еще при римском императоре Августе или Тиберии. Она даже, "если токмо человеку благочестивому поручится, ни мало не вредна, а злостные и нечестивые, недолго тем наслаждался, сами исчезают". Дело, следовательно, лишь в том, кто ведает Тайной канцелярией. Татищев, однако, не разъясняет, как предотвратить возможность поручения ее "злостным и нечестивым".
Дав такую теоретическую справку о целесообразности самодержавия в России, Татищев затем переходит к "настоящему". И оказывается, что у него имеются соображения о путях ограничения самодержавного произвола. Татищев подчеркивает, что против кандидатуры верховников никто не возражает и что вопрос о способах избрания монарха может относиться только к будущему. Удовлетворен Татищев также "мудростию, благонравием и порядочным правительством в Курляндии", показанными Анной Ивановной. Но он предлагает фактическое ограничение ее самодержавия, хотя и облекает это предложение в весьма замысловатую форму: императрица "как есть персона женская, к так многим трудам неудобна, паче же ей знания законов не достает, для того на время, доколе нам всевышний мужеску персону на стол дарует, потребно нечто для помощи ее величеству вновь учредить".
Для помощи "женской персоне" предлагалось объединить Верховный тайный совет и Сенат, доведя их численность до 21 человека, которые будут нести службу в три смены по семь человек. "Делами внутренней экономии" должно было ведать "другое правительство". Оно избиралось в количестве ста человек и тоже участвовало в управлении сменами по третям года, дабы не запускать и своих собственных вотчин. Трижды в год или при чрезвычайных обстоятельствах на совещание съезжаются все "сто персон". "Общее собрание" не должно продолжаться "более месяца".
На высшие должности избираются пожизненно. Но избрание на "упалые" места, осуществляемое обоими правительствами, предусматривало выдвижение нескольких кандидатов и проведение двух туров голосования: сначала отбираются три кандидата, а затем один, наиболее достойный. Голосование должно быть тайным. "Через сей способ, - говорит Татищев, - можно во всех правлениях людей достойных иметь, не смотря на высокородство, в которых много негодных в чины производят". В случае если такой путь императрице не понравится, Татищев готов уступить: разрешить императрице выбирать из трех предварительно избранных кандидатов одного.
Не склонен Татищев отдавать на усмотрение монарха и законодательную власть, хотя опять-таки ограничение самодержавия рассматривается в качестве помощи. Татищев ставит вопрос: в чем задача государя? И отвечает: в "общей пользе и справедливости". Сама императрица, конечно, сочинять законов не будет. Она это дело кому-то передоверит. И вот здесь-то и заключается "опасность немалая, чтоб кто по прихоти чего непристойного и правости несогласного или паче вредного, не внес". Даже "Петр Великий, хотя и мудрый государь был, но в своих законах многое усмотрел, что переменить нужно". Поэтому он распорядился "все оные собрав, рассмотреть и вновь сочинить". Чтобы не допускать беспорядка в законодательстве, "лучше оное прежде издания рассматривать, нежели издав переменять, что с честию монарха не согласует. Непродуманное законодательство, следовательно, ложится укором на монарха, и, дабы избежать этого, монарх должен быть предусмотрительным.
Поскольку одному человеку невозможно сочинить сколько-нибудь удачный закон, необходимо привлечь к его обсуждению достаточно широкий круг государственных деятелей. Предварительно его должны обсудить в коллегиях, затем в "вышнем правительстве". Императрице останется утвердить тщательно продуманный законопроект.
Тайную канцелярию Татищев оставляет. Но "смотреть на справедливость" должны два человека, выделенные Сенатом. Таким образом должен быть обезврежен самый одиозный орган монархии, с помощью которого самодержцы расправлялись со своими личными противниками.
В проекте Татищева выборные органы составляются из дворянства. Выдвиженцы Петровской эпохи, получившие дворянство с достижением соответствующего чина Табели о рангах, записывались в "особую книгу". Правда, запись делалась лишь для того, чтобы "подлинное шляхетство известно было". Непосредственно на экономическом и политическом положении нового дворянства такое разделение не сказывалось. Но это все-таки было уступкой принципу "породы". Неясно только, отражало ли это положение отношение к вопросу самого Татищева или же он уступал настояниям своих коллег, от имени которых он в данном случае выступал.
Как и другие дворянские проекты, татищевский предполагал открытие для дворян специальных училищ с целью непосредственного производства их в офицеры. Служба до сих пор была пожизненной. Проект предполагал зачисление в службу с восемнадцати лет и ограничение ее двадцатью годами.
О купечестве говорится не очень определенно: "колико можно от постоев уволить и от утиснения избавить, а подать способ к размножению мануфактур и торгов". Учитывая, что проект обсуждался в больших собраниях, можно понять столь неопределенную формулу "колико можно". Дворянство в целом шло навстречу купечеству лишь до той грани, пока не страдали их непосредственные интересы.
Весьма любопытны встречные соображения о целесообразности республики, воспроизведенные Татищевым. Трудно даже представить, кто мог в это время выступать с республиканскими идеями. Во всяком случае, ни в одном из дворянских проектов нет никакого намека на столь далеко идущие мысли. Вопрос об организации высшей власти в них даже и не рассматривался: дворяне в равной мере соглашались и с самодержавием, и с его ограничением. Зато у Татищева эти вопросы будут вставать снова и снова, и не исключено, что спор он вел с самим собой, может быть, используя ответы Феофана Прокоповича на собственные сомнения.
В Верховный тайный совет от самой значительной группы дворянства был подан иной текст проекта, чем тот, что по памяти изложил Татищев. Так, в нем, помимо "вышнего правительства" из 21 человека, сохранялся Сенат в количестве 11 человек, а сто персон участвовали в выборах высших государственных должностей. Документ этот вместе с копиями подписали свыше трехсот человек, в том числе А. М. Черкасский, Иван Плещеев, Платон Мусин-Пушкин, А. К. Зыбин. В числе подписавших был и Татищев.
Верховники вовсе не собирались упорствовать по вопросу о численности "вышнего правительства", равно как по вопросу о его названии. Они готовы были пополнить число членов совета до двенадцати человек и более, то есть практически расширить его за счет Сената, насчитывавшего в 1730 году восемь членов, или же за счет вновь избранных. Но теперь они уже считали себя связанными предложениями собрания 2 февраля. Для окончательного решения вопросов, затронутых в дворянских проектах, они снова собирались получить санкцию императрицы и от ее имени объявить о согласии с основными пожеланиями дворян. Не зная и, видимо, не догадываясь об этом, дворяне стали проявлять нетерпение и беспокойство. Им стало казаться, что верховники хотят решить важные вопросы за их спиной. В этих условиях они добиваются приема у императрицы.
Пока Анна Ивановна двигалась со своим кортежем из Митавы в сторону Москвы, приверженцы самодержавия держались в тени и действовали скрытно. Самодержавная партия в Москве вовсе не была всесильной. Но по мере приближения императрицы и установления с ней связей монархисты все более подымали голову. Во главе самодержавной партии оказались три обрусевших иноземца: Андрей Иванович Остерман, Феофан Прокопович и Антиох Кантемир.
В сущности, у иностранца в России, если он стремился к власти, выбора не было. "Русские дворяне служат государству, немецкие - нам", - так столетие спустя оценил обстановку Николай I, цинично признав таким образом и несовпадение интересов самодержавия с государственными, и сугубо корыстный характер взаимной любви самодержцев с иноземцами. Остерман, диктовавший "штиль" при составлении Кондиций, не надеялся, конечно, удержаться на поверхности, если бы в России вдруг утвердилась шляхетская республика. Из рук Петра получил столь высокое положение и Феофан Прокопович - автор трактата в защиту неограниченного самодержавия. Кантемир же при случае и сам мог стать монархом на родине отца.
За самодержавие стояли и выдвиженцы Петра, опасавшиеся за не всегда праведным путем добытое возвышение. Были и обиженные. Зять Головкина Ягужинский в ночь на 19 января кричал о необходимости "воли себе прибавить". Но многие из верховников не могли скрыть презрения к этому лицемерному и вороватому выскочке. И Ягужинский спешит предупредить Анну о замыслах верховников.
Сторону самодержавия держал и бывший канцлер Головкин. Головкин и Остерман то и дело сказывались больными. Когда же Д. М. Голицын решил навестить "больного" Остермана, оказалось, что тот деятелен как никогда.
Само сотрудничество Голицыных и Долгоруких было довольно трудным. Два титулованных рода мало доверяли друг другу. Подлинную заинтересованность в успехе дела, видимо, проявляли лишь Д. М. Голицын и В. Л. Долгорукий. Оба стремились и как-то расширить круг приверженцев конституционной партии. Но Голицын, по-видимому, просто опоздал. Вступить в соглашение с окружением А. М. Черкасского он или не успел, или не смог из-за противодействия других членов совета. Во всяком случае, обращение к Анне Ивановне последовало именно от этой группы дворян, и жаловались они на нежелание Верховного тайного совета рассмотреть их прошение.
А. М. Черкасский не отличался ни государственным умом, ни твердостью характера, ни ясностью политических целей. Но на его стороне были богатая родословная и не менее богатые вотчины, чем он и привлекал в свой дом представителей дворянства, обычно тоже титулованного и также политически бездеятельного.
Накануне приезда Анны Ивановны возбуждение в Москве достигло высшей точки. Монархисты теперь собираются в разных домах более или менее открыто. 23 февраля состоялось совещание в доме генерал-поручика Барятинского. На этом совещании верховников снова осуждали за то, будто они не хотят удовлетворить требования дворянства. Колеблющихся убеждали, что сделать это сможет только самодержавие. Татищеву было поручено мнение группы Барятинского довести до сведения генералитета и высшего дворянства, собравшихся у Черкасского. В итоге была выработана совместная челобитная, написанная набело Кантемиром. Об этом была поставлена в известность Прасковья Юрьевна Салтыкова, жена двоюродного брата Анны - Семена Андреевича Салтыкова и сестра Головкина. Прасковья участвовала в разных собраниях и доводила обо всем до сведения императрицы.
Татищев, видимо, несколько односторонне изложил суть многократных дворянских собраний 23 и 24 февраля. Да и его собственная позиция не отличалась последовательностью. Есть указания на то, что его побуждал к написанию проекта С. А. Салтыков. Салтыков и его супруга решительно держались линии на восстановление самодержавия, хотя он и был в числе подписавших татищевский проект. Татищев же охотно обсуждал спорные вопросы и с монархистами и с конституционалистами. Такого рода колебания характерны и для многих других вожаков дворянства. Очень часто в одной и той же семье отец и сын или два брата оказывались в разных компаниях: на всякий случай - чья возьмет.
25 февраля группе дворян, в числе которых были Черкасский, только что примкнувший к ним генерал-фельдмаршал Трубецкой и Татищев, удалось проникнуть во дворец. Трубецкой как старший по званию должен был читать челобитную. Но так как он заикался, прочел ее выразительно и громкогласно Татищев.
Челобитная, прочитанная Татищевым, вовсе не свидетельствовала о желании дворянства вернуться к самодержавной форме правления. В ней выражалась благодарность за то, что Анна "изволила подписать пункты". "Бессмертное благодарение" было обещано Анне и от потомства. Дворян не устраивало лишь то, что столь полезное начинание осуществляется скрытно Верховным тайным советом. Чтобы рассеять "сумнительство", челобитчики просили созыва чего-то вроде учредительного собрания от генералитета, офицерства и шляхетства по одному или по два человека от фамилии для решения вопроса о форме государственного правления.
Анна была осведомлена о намерении сторонников восстановления самодержавия. В числе их она, очевидно, считала и Татищева. Но текст челобитной был настолько для нее неожидан, что она готова была его отвергнуть. Подписать челобитную посоветовала Анне ее старшая сестра Екатерина. Чем она при этом руководствовалась - трудно сказать. Отношения между тремя сестрами были далеко не идиллическими. Анна не любила сестер, особенно Екатерину, которая отличалась и большим умом, и большей энергией, чем Анна. Но Анна боялась ее и потому слушалась. Екатерина после разрыва с мужем, герцогом Мекленбургским, проживала в своем Измайловском дворце. Выбор Анны не мог не уязвить ее. Все-таки она была и старше, и способнее вести государственные дела, чем Анна. Советуя Анне подписать новый документ, она надеялась не столько на упрочение положения Анны в ходе неизбежных после такого поворота дела перетрясок, сколько на возвращение к исходным рубежам, когда и ее собственное имя окажется в числе обсуждаемых кандидатов на царский стол.
Никакой серьезной "замятни", однако, не произошло. Гвардейские офицеры сразу подняли шум и изъявили желание сложить головы всех "злодеев" к ногам самодержавной императрицы. Конституционалистам ничего не оставалось, как присоединиться к другой челобитной, прочитанной на сей раз Кантемиром. В этой челобитной, правда, вслед за просьбой принять "самодержавство", излагались пожелания допускать дворянство к выборам высших должностей и "форму правительства государства для пребудущих времен ныне установить". Но первый тезис уже зачеркивал все последующие. Те, кто надеялся соединить самодержавие с принципами представительного правления и законностью, могли немедленно же убедиться в несбыточности своих надежд. Анна приказала разорвать Кондиции на глазах верховников и других высших должностных лиц, обвинив Василия Лукича, будто он обманом заставил ее подписать их ранее. Ни о каком обращении с ее стороны к дворянскому "всенародию" не могло быть и речи.
Закончился уникальный в истории России политический эксперимент: пятинедельный период конституционной монархии. Восторг и ликование изливали теперь те, кто, по выражению Артемия Волынского, наполнен был "трусостью и похлебством". Клеймили зачинщиков противного богу и привычному течению дел плана политического переустройства общества. И даже Татищев в путаной своей записке стремится соединить конституционные настроения с самодержавием, доказывая, что для непросвещенной пока России приемлемо именно то, что в порядочном обществе надо было бы решительно отвергнуть как нечто нецелесообразное и недостойное естества человеческого. Дрогнули и Долгорукие. Они готовы были опередить монархистов с преподнесением Анне полного самодержавия. И кажется, только Дмитрий Голицын не отступил от однажды занятой позиции. "Пир был готов, - говорил он после событий 25 февраля. - Но гости были его недостойны. Я знаю, что беда обрушится на мою голову. Пусть я пострадаю за отечество. Я стар, и смерть не страшит меня. Но те, кто надеется насладиться моими страданиями, пострадают еще более". Это был пророческий взгляд на грядущую бироновщину.
Татищев Василий Никитич (1686-1750 гг.) происходил из знатного, но обедневшего дворянского рода, учился в Петровской артиллерийской и инженерной школе. В 1713-1714 гг. продолжил обучение в Берлине, Бреславле и Дрездене. Участвовал в военных походах Петра, в частности в Полтавской битве. Служил в Берг- и Мануфактур-коллегиях. В 20-30 годы, с небольшими перерывами, управлял казенными заводами на Урале (основал Екатеринбург). В 1721 г. по его инициативе открылись горнорудные школы Урала. В 1724-1726 находился в Швеции, где надзирал за обучением российских молодых людей горному делу, изучал экономику и финансы. По возвращении назначен членом, затем главой Монетной конторы (1727-1733). В 1741-45 г. был астраханским губернатором. После отставки переехал в свою подмосковную усадьбу и не оставлял ее до самой смерти.
В. Н. Татищев автор сочинений по географии, этнографии, истории, включая первый обобщающий труд по отечественной истории «История российская с самых древнейших времен». Другие труды: «Лексикон Российский» (до слова «ключник»), «Краткие экономические до деревни следующие записки», был опубликован Судебник 1550 г. с его примечаниями.
Одним из важных просветительских достижений Татищева было новое понимание человека. Он заявил о «нерушимости человека», пытаясь обосновать это положение с помощью теории «естественного права», приверженцем которой он являлся. По мнению Татищева, свобода -величайшее благо для человека. В силу различных обстоятельств человек не может пользоваться ею разумно, поэтому на него должна быть наложена «узда неволи». «Неволя», как полагал ученый, присуща человеку либо по «природе», либо «по своей воле», либо «по принуждению». Подневольное положение человека есть зло, которое Татищев сравнивал с грехом, и само по себе оно выступало «противо закона христианского» (Татищев 1979:387). Фактически Татищев был единственным из отечественных мыслителей первой половины XVIII столетия, кто поставил вопрос о личной свободе человека. Для него этот вопрос решался, прежде всего, в связи с существовавшим тогда крепостным правом. Татищев не высказывался, открыто против его отмены, но в его произведениях эта идея четко прослеживается. К такой мысли можно прийти путем последовательного анализа не только высказываний исследователя о том, что «воля по естеству человеку толико нуждна и полезна», но и самостоятельных выводов ученого, возникших в ходе характеризации социально-экономического развития России. Татищев проводил сравнение с другими государствами, например, с Древним Египтом, показывая тем самым, какую выгоду может получить страна при освобождении крестьян от какой-либо зависимости (Татищев 1979:121). Вопрос о личной свободе также решался ученым с точки зрения теории «естественного права».
Концепция крепостного права, предложенная Татищевым, выглядит следующим образом: крепостное право - незыблемая основа существовавшего в тот период строя, но как явление оно имеет исторической характер. Его установление есть результат договора, но, по мнению Татищева, договор не должен распространяться на детей договорившихся, следовательно, крепостное право не вечно. Поэтому существование крепостной зависимости в России является незаконным. Несмотря на подобные умозаключения, Татищев не считал возможным отменить крепостную зависимость в современной ему России. В отдаленном будущем это должно произойти, но только после обсуждения, в ходе которого будет выработано наиболее разумное решение по вопросу отмены крепостного права.
Останавливаясь на крестьянском вопросе, Татищев особое внимание обращал на проблему беглых в Уральском регионе. Обнаружив, что бегство крестьян, преимущественно старообрядцев, имело широкие масштабы, он предложил использовать их труд на горнозаводских предприятиях Урала. Неоднократно указывая на нехватку рабочих, Татищев изыскивал возможности для привлечения для работы на предприятиях различные категории населения, в том числе и «вольно пришедших», тем самым доказывая необходимость освобождения крестьян от крепостной зависимости и пользу вольнонаемного труда. Ученый высказывался за организацию богаделен, для людей, долгое время проработавших на заводе, что еще раз подчеркивает его заботу о человеке, как о труженике.
Участвуя в политических событиях 1730 года, Татищев, хотя и в завуалированной форме, но все-таки выступил за ограничение монархии. Представив в 1743 году записку «Произвольное и согласное разсуждение.» в Сенат, он, сам того не ведая, по мнению Г.В. Плеханова, «пишет конституционный проект» (Плеханов 1925:77). Главное, за что выступал Татищев, - это сильная исполнительная власть, которая должна заключаться не только в монархе, но и в органах, помогающих ему в управлении государством. Предлагая избрать «другое правительство», ученый определял такие принципы их организации, которые могут быть приемлемы и в современной России: отсутствие местничества при получении должностей, сокращение средств на содержание аппарата, законные выборы и другое.
В своих произведениях Татищев проводил и сословное деление российского общества. Главное внимание было уделено им дворянству, как наиболее прогрессивной прослойке в стране. Особо выделял исследователь торговую прослойку - купечество и ремесленников. Он не только определял их обязанности, но и неоднократно подчеркивал, что государство должно проявлять заботу о них, так как благодаря их деятельности шло постоянное пополнение казны, а, следовательно, и увеличение доходов страны.
Рассуждая о законотворчестве, ученый высказал ряд пожеланий, которые касались создания свода законов. Данные пожелания направлены, прежде всего, на то, чтобы в России все стороны жизнедеятельности общества регулировались законодательными актами, а значит, отношения между всеми членами общества и государством должны строиться на договоре, который должен быть не устным, а письменным договор.
Целостность мировоззрения Татищева определяют такие его составные, как рационализм, свободомыслие, отход от провиденционализма, самостоятельность и независимость суждений, веротерпимость, работа на пользу государства», забота о человеке, развитие светских наук и просвещения. Несмотря на это наблюдаются и противоречия во взглядах ученого. Это проявилось и в его отношении к Академии наук, высказываниях в отношении крепостного права и сохранении привилегий дворянству, определение при этом положения других сословий России.
Татищев был человеком, предвосхитившим свое время. Он не видел в России той социальной силы, на которую можно опереться при проведении преобразований, направленных на капитализацию российского общества. Примеряя опыт стран Западной Европы к России, исследователь понимал бесперспективность своих идей, которые не смогут быть реализованы в полном объеме. Само государство мешало осуществлению замыслов Татищева. Несмотря на то, что в России благодаря усилиям и реформам Петра I произошли серьезные сдвиги в социальной, экономической, политической и духовной областях, большое их количество так и не встретило поддержку среди населения. Ученый видел, что в России не существовало той силы, на которую можно опереться при проведении преобразований в государстве. Поэтому он рассчитывал на поддержку дворянства, консервативного, но в то же время самого образованного класса русского общества, способного повлиять на дальнейшее ускоренное развитие России. С подобными трудностями столкнулась во время своего правления Екатерина II. Такое положение вещей, с нашей точки зрения, лишь показывает сложность в развитии России в первой половины XVIII столетия, а отнюдь отсутствие в государстве мыслителей, являвшихся выразителями просветительских идей. Таким мыслителем, в чьем мировоззрении довольно четко прослеживались характерные черты просветительства, и был Василий Никитич Татищев.
Последнее сообщение И. К. Кирилова относится к декабрю 1736 года. В нем он обещает прислать новые карты еще в эту зиму, что и было им выполнено в феврале 1737 года через В. Куприянова.
14 апреля 1737 г. И. К. Кирилова не стало. Так, до последнего часа он служил русской картографии.
Необходимо отметить еще работы И. К. Кирилова по истории и этнографии Башкирии. Оказывается, он посылал записки академику Миллеру, и в портфеле последнего найдены: «Известия гг. Кирилова и Гейнцельмана о сибирских и других азиатских народах» (8 тетрадей). Далее известно, что И. К. Кирилов вместе с Гейнцельманом сочинял «Генеральную генеалогию татарских ханов из древней истории и арабской хроники, доколе оные с древними временами России смежность имеют».
Таким образом И. К. Кирилов, возглавляя трудный поход, занимался обширной научной деятельностью.
И. К. Кирилов первый начал геодезическую съемку русской территории; выпустил первый атлас Российской империи, составил первое экономико-географическое описание России. Он первый начал изучение Южного Урала в научном отношении, построил город Оренбург и ряд других городов, положил начало горному делу.
Его географический энтузиазм, несомненно, оказывал огромное влияние на окружающих, и, во всяком случае, И. К. Кирилов первый заронил искру любви к географии в душу молодого Петра Рычкова - выдающегося географа следующего поколения.
Географическая деятельность И. К. Кирилова отличалась широтой замыслов и непреклонной решительностью, энергией и смелостью исполнения. Это был человек большой инициативы, ума, таланта, всецело преданный русской науке, горячо любящий свою Великую Родину.
Крупному специалисту по горному делу и начальнику Олонецких заводов Генину было поручено ехать на Урал, наладить там заводское производство и произвести следствие по делу В. Н. Татищева. С Гениным на Урал для очной ставки с Демидовым поехал и В. Н. Татищев.
Проблемы русской истории и русской историографии, разумеется, не могли пройти мимо внимания человека, который, по выражению А. С. Пушкина, сам был всемирной историей. Петр I непременно желал иметь полноценную «Историю России», соответствовавшую современному уровню научного знания. За ее составление поочередно было засажены несколько русских книжников. Однако дело как-то не заладилось — задача оказалась не по плечу отечественным Геродотам и Фукидидам, чьи умственные способности их недальний потомок описал одной выразительной строкой: «Уме недозрелый, плод недолгой науки». В конце концов царю пришлось обратиться за русской историей туда же, куда он привык обращаться за всем прочим, — в Европу. За год до смерти, 28 февраля 1724 г., Петр I подписал указ, гласивший: «Учинить академию, в которой учились бы языкам, так же прочим наукам и знатным художествам и переводили бы книги».
Со смерти Петра не прошло и каких-нибудь полутора десятков лет, как Россия получила полноценный исторический труд. И всего замечательнее было то, что Академия с ее приезжими многоучеными адъюнктами и приват-доцентами не имела к этому никакого отношения. Почин в этом деле и основную часть работы взял на себя один человек, притом прямого касательства к исторической науке не имеющий. Звали его Василий Никитич Татищев. Он, по справедливости, может считаться отцом русской историографии.
Татищев интересен не только как историк, но и как тип практического деятеля, воспитанного в огромной Петровской мастерской. По меткому определению Ключевского, он являет собой образец человека, «проникшегося духом реформы, усвоившего ее лучшие стремления и хорошо послужившего отечеству, а между тем не получившего от природы никаких необычайных дарований, человека, невысоко поднимавшегося над уровнем обыкновенных средних людей». Его фигура открывает ряд блестящих дилетантов русской науки и культуры XVIII в.
В 1704 г., восемнадцати лет от роду, Татищев определился в армию артиллеристом. В Петровское время человек редко заканчивал службу там, где ее начинал. За сорок лет своей служебной деятельности Татищев побывал горным инженером, управляющим монетным делом в Москве и астраханским губернатором. Удалившись от дел в 1745 г., он до самой смерти (1750 г.) жил в своем подмосковном имении — селе Болдино. Все это время он находился под судом по обвинению в лихоимстве. Оправдательный приговор был вынесен за несколько дней до его кончины.
Занимаясь горным делом, Татищев собирал географические сведения о местностях, где предполагалось вести разработки рудных залежей или строить заводы. Русская география по естественному течению мыслей увлекла его к русской истории. Постепенно сбор и изучение древнерусских памятников, письменных и вещественных, превратились для него в подлинную страсть. Татищев стал, вероятно, самым выдающимся читателем тогдашней России. Он не пропускал ни одной русской и иностранной книги об истории и поручал делать выписки и переводы из латинских и греческих авторов. Позднее он признавался, что, приступая к написанию своей «Истории», имел под рукой более тысячи книг.
Татищев отлично понял важность иностранных источников для древней истории России и умело ими воспользовался. Но со временем особую ценность его труду придали не они, а уникальный древнерусский памятник, о котором мы имеем понятие только благодаря обширным выпискам из него Татищева. Это — Иоакимовская летопись, приписываемая новгородскому святителю епископу Иоакиму Корсунянину, современнику князя Владимира I Святославича. Она была известна Татищеву по позднему списку середины XVII в., но сохранила древнее славянское предание, не попавшее в другие летописные своды. Ознакомление с ней и привело Татищева к заключению, что «Нестор-летописец о первых князьях российских не весьма добре сведом был».
В самом деле, кого не смущало это внезапное начало русской истории, датированное в «Повести временных лет» 859 годом: «Имаху дань варязи на словенах»? Почему «имаху», с какого времени «имаху» — все эти вопросы повисают в воздухе. Вслед за варягами на исторической сцене, как «бог из машины» в древнегреческой трагедии, появляется Рюрик с братьями и русью. По Иоакимовской же летописи выходит, что Нестор начинает с конца очень длинной и весьма интригующей истории.
В незапамятные времена жил в Иллирии князь Словен со своим народом — словенами. Снявшись однажды с насиженных мест, он увел словен на север, где основал Великий град. Словен стал основателем династии, которая ко времени призвания Рюрика насчитывала 14 поколений князей. При князе Буривое, Рюриковом прадеде, словене вступили в долгую войну с варягами. Потерпев тяжкое поражение на реке Кюмени, которая веками служила границей новгородских и финских земель, Буривой бежал из Великого града, жители которого стали варяжскими данниками.
Но недолго владели варяги Великим градом. Тяготясь наложенной на них данью, словене испросили у Буривоя себе в князья его сына Гостомысла. Когда тот явился, словене восстали и прогнали варягов.
Во время длительного и славного княжения Гостомысла на словенской земле установились мир и порядок. Но к концу его жизни Великому граду стали вновь угрожать внутренние неурядицы и внешняя опасность, ибо у Гостомысла не оказалось наследника: четыре его сына погибли в войнах, а трех дочерей он выдал замуж за соседних князей. Тревожимый тяжелыми мыслями, Гостомысл обратился за советом к волхвам в Колмогард. Те прорекли, что ему наследует князь его крови. Гостомысл не поверил предсказанию: он был так стар, что его жены уже не рожали ему детей. Но в скором времени ему приснился чудесный сон. Он увидел, что из чрева его средней дочери Умилы выросло великое и плодовитое дерево; оно укрыло под своей кроной весь Великий град, и все люди этой земли насытились от его плодов. Проснувшись, Гостомысл призвал волхвов, чтобы они истолковали его сон, и услышал от них, что Умила и произведет на свет его наследника.
Сомнения Гостомысла на этом, однако, не улеглись. Ведь у него уже был внук от старшей дочери, и если уж вставал вопрос о передаче наследования по женской линии, естественно было предложить княжеский стол ему, а не его младшему брату. Гостомысл все же решил положиться на волю богов и рассказал о своем вещем сне народу. Но многие словене не поверили ему и не пожелали забыть о правах старшего внука. Смерть Гостомысла вызвала междоусобицу. И только хлебнув лиха, словене вспомнили о Гостомысловом сне и пригласили княжить сына Умилы, Рюрика.
В изложении своего понимания варяжского вопроса, Татищев опирался на предшествующие опыты русской истории — Синопсис (издан в 1674 г.) и . Следуя духу первого, он придал призванию князей характер естественности — славяне призвали не чужестранца, а внука своего князя. У Байера Татищев позаимствовал критический метод обращения с источниками и саму постановку проблемы: этническая принадлежность варягов-руси и место их обитания. Но войдя под руководством Синопсиса и Байера в область древней русской истории, Татищев затем действовал самостоятельно. Он не отправился отыскивать родину первых русских князей ни в Пруссию, ни в Скандинавию. Варяжский (русский) муж Умилы был, по его мнению, финским князем. В доказательство своих слов Татищев привел массу историко-филологических свидетельств давнего бытования корня «рус» в топонимике Финляндии и юго-восточной Прибалтики. И все-таки над его историческими разысканиями витает тень Байера: история варягов-руси в дорюриковский период оказалась у Татищева никак не связанной с историей славян. Недаром Ключевский назвал его русским историографом, цепляющимся за вечно несущуюся вперед европейскую мысль.
Труд Татищева подпал под еще более тяжкий суд, чем тот, который преследовал его самого, — суд истории. В 1739 г. Татищев привез рукопись своего сочинения в Петербург и отдал на прочтение своим знакомым и влиятельным лицам в тогдашнем ученом мире, в надежде на положительные отзывы. Однако, по его собственным словам, одни рецензенты попеняли ему на недостаток философского взгляда и красноречия, другие возмутились за посягательство на достоверность Несторовой летописи. При жизни Татищева «История» так и не была издана.
Вскоре после его кончины пожар уничтожил Болдинский архив. От рукописей Татищева уцелело лишь то, что было в чужих руках. По этим неисправным спискам, изданным в 1769-1774 гг., русские читатели и ознакомились впервые с «Историей Российской». В полном и наиболее близком к оригиналу виде «История» появилась только в 1848 г.
Нападки на Татищева, однако, не прекратились. Введенную им в научный оборот Иоакимовскую летопись долгое время считали чуть ли не мистификацией. К. Н. Бестужев-Рюмин, выражая общее мнение историков середины XIX в., писал даже, что на Татищева нельзя ссылаться (правда, позже он пересмотрел свои взгляды и с должным уважением отнесся к трудам первого русского историографа: «”История” Татищева, памятник многолетних и добросовестных трудов, воздвигнутых при условиях самых неблагоприятных, долго оставалась непонятой и неоцененной... Теперь уже никто из ученых не сомневается в добросовестности Татищева»). Затем скептицизм историков был перенесен на сами сведения, сообщаемые Иоакимовской летописью. Но в последнее время доверие к ним со стороны историков значительно возросло. Сейчас уже об Иоакимовской летописи можно говорить как об источнике первостепенной важности, особенно в части, касающейся «дорюриковой» эпохи.
P.S.
Благодаря дочери В.Н. Татищев стал прапрадедом поэта Ф.И. Тютчева (по материнской линии).
СТРАСТИ ПО ТАТИЩЕВУ
В.В. Фомин
Липецкий государственный педагогический университет Россия, 398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 2 e-mail: [email protected] SPIN-код: 1914-6761
Статья посвящена анализу работ, отрицающих источниковую основу уникальных известий, содержащихся в «Истории Российской» В.Н. Татищева, и противостоящих им работам С.Н. Азбелева и других учёных. С.Н. Азбелев убедительно показал недобросовестность «скептической» работы А.П. Толочко, поскольку не имеется убедительных аргументов в пользу того, что Татищев был фальсификатором.
Ключевые слова: С.Н. Азбелев, историография, В.Н. Татищев, летописи.
DISPUTES OVER TATISHCHEV
Vyacheslav Fomin Lipetsk state pedagogical university 2 Lenin Street, Lipetsk, 398020, Russia e-mail: [email protected]
The article analyzes scholarly works that challenge the source basis of unique data contained in the History of Russia by V.N. Tatishchev and the opposing works of S.N. Azbelev and other scientists. S.N. Azbelev has demonstrated that «skepticism» of A.P. Tolochko is unsubstantiated because no convincing arguments exist that V.N. Tatishchev was a falsifier.
Keywords: S.N. Azbelev, historiography, V.N. Tatishchev, chronicles.
В 2008 г. в «Вопросах истории» была напечатана моя рецензия на монографию С.Н. Азбелева, творчество которого давно и плодотворно работает на отечественную историю: «Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли» (СПб., 2007). В данном труде крупнейшего специалиста в области изучения источников и русской истории особенно обстоятельно изложен материал, посвященный Иоакимовской летописи и В.Н. Татищеву, впервые ее опубликовавшую. Представителям исторической науки, впрочем, не только им, хорошо известна заезженная «песенка» скептиков, сомневающихся (преднамеренно, или по простому заблуждению, часто проходящему по мере профессионального роста) буквально во всем, что касается родной истории, и, конечно же, обвиняющих оппонентов в
легковерности, о недостоверности Иоакимовской летописи, т.к. она, по их утверждению, представляет собой фальсификат самого Татищева.
Вот такому многоголосо-коллективному Фоме неверующему весьма достойный ответ дал своей монографией Азбелев. Как заключил тогда автор настоящих строк, исследователь, «рассуждая в лучших традициях российского источниковедения, характерных для творчества С.М. Соловьева, П.А. Лавровского, А.А. Шахматова, В.Л. Янина, выступавших против ничем необоснованного скептического отношения к Иоакимовской летописи (Шахматов рассматривал ее как важное звено древнейшего летописания) и обвинения Татищева в ее подлоге, и заостряя внимание на том, что результаты, полученные Яниным в ходе масштабных археологических раскопок Новгорода, подтверждают аутентичность уникальных сведений Иоакимовской летописи (прежде всего подробного повествования о крещении новгородцев, изложенного очевидцем)... приходит к выводу, что летопись зиждется на устных источниках» и что она, являясь первоначальным текстом первого епископа Новгорода Иоакима (ум. 1030), дошла до Татищева в рукописи XVII в., при этом не избежав, «вероятно, какого-то внешнего влияния», что «не дает оснований усомниться в достоверности этого памятника» (см. подробнее: Фомин 2008: 170).
Но наши «скептики», разумеется, ничего не видят и ничего не слышат, посему есть необходимость продолжить начатый Азбелевым разговор. В связи с чем следует указать, что первыми свое сомнение в состоятельности Татищева как историка выразили немцы-норманисты, работавшие в Петербургской Академии наук: Г.Ф. Миллер и А.Л. Шлецер (причем последний высказал полярные оценки его творчества, но громче всего прозвучала, будучи нацеленной на огромную аудиторию - на весь ученый и просвещенный мир начала XIX в., - именно негативная). И выразили потому, что Татищев, во-первых, продемонстрировал блестящие результаты в изучении прошлого своей Родины и продемонстрировал в обобщающем труде, а такими результатами и наличием такого труда ни Миллер, ни Шлецер, считавшие профессионалами-историками исключительно только себя, похвастаться не могли.
Во-вторых, их отношение к Татищеву было продиктовано еще и тем, что он отрицал норманство варягов и в «Истории Российской с самых древнейших времен», а также в «Летописи краткой великих государей руских от Гостомысла до разорения татар.», «Лексиконе российском историческом, географическом, политическом и гражданском» и «Разговоре дву приятелей о пользе науки и училищах», выводил Рюрика «не из Швеции, ни Норвегии, но из Финляндии» («финские князи неколико времени Русью владели и Рюрик от оных», «Рюрик избран по завету Гостомысла от варяг руссов, по обстоятельствам королевич финской», «взяли к себе князя Рюрика от варяг, или финов...», «Рюрик в Финляндии государь по наследству, а в Руси по избранию» и т.п. При этом поясняя, трактуя имя «варяги» в расширительном смысле, что «варяги, по летописцу Нестерову, суть шведы и норвеги; финов же именует варяги русы, т.е. чермные варяги», и что под варягами «разумели финов и шведов, иногда Данию и Норвегию в то заключали») (Татищев 1962: 289-292, 372, прим. 17 и 19 на с. 115, прим. 26 на с. 117, прим. 15 на с. 226, прим. 33 на с. 228, прим.
№1 _______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ _______________________2016
54 на с. 231, прим. 1 и 6 на с. 307, прим. 28 на с. 309; Татищев 1964: 82, 102; Татищев 1968: 220, 282; Татищев 1979: 96, 205-206).
Миллер нелестно отозвался об «Истории Российской», отрицая за ней, по справедливому замечанию С.Л. Пештича, «научное достоинство», в статье «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи, и о продолжателях оныя», напечатанной в 1755 г. в «Ежемесячных сочинениях к пользе и увеселению служащих». Ибо, снисходительно резюмировал он, «кто историю читает только для своего увеселения, тот подлинно сими его трудами будет доволен... а кто далее желает поступить, тот может справливаться с самим Нестором и с его продолжателями», т.е. противопоставил труд Татищева летописям (однако эта статья представляет собой, как показала Г.Н. Моисеева, перепечатку пятой, шестой и седьмой глав «первоначальной» редакции» «Истории Российской», присланной в Петербургскую Академию наук, причем официальный государственный историограф, которому по должности надлежало сочинять «историю всей Российской империи», но так ее за треть столетия с лишним не сочинившую, заимствовал и мнение Татищева «о значении русских летописей как исторических источников и его вывод о "главнейших" списках Несторовой летописи»).
Василий Никитич Татищев (1686-1750)
№1 _______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ______________________2016
А в 1773 г. неподдельно возмущался, приписывая русским совершено несвойственное им чувство национального превосходства, тем, что он выводил варягов из Финляндии: как это Татищев мог, тридцать лет трудясь над своим сочинением и проработав большое число источников (античных, русских) и немецкую историографию, «прилепиться к мнению для сограждан его столь оскорбительному» (Миллер 1996: 6; Миллер 2006: 98-99; Пекарский 1870: 346; Пештич 1965: 218; Моисеева 1967: 134-136; Моисеева 1971: 143, 163-164, 171; Фомин 2006: 65-66; Фомин 2010: 236-238). Вместе с тем нельзя забывать, что в 1768 г. Миллер начнет издавать труд великого русского историка. А данный факт свидетельствует о том, что он к этому времени профессионально очень вырос, потому в полной мере и осознал значимость его для науки.
В 1764 г. в «Плане занятий» (январь), представленном в Петербургскую Академию наук, А.Л. Шлецер брался за три года «исполнить» «продолжение на немецком языке русской истории от основания государства до пресечения рюриковой династии, по русским хроникам (но без сравнения их с иностранными писателями) с помощию трудов Татищева и... Ломоносова» (этот замысел никогда не будет реализован). А в «Мыслях о способе обработки русской истории» (июнь), направленных по тому же адресу, обязывался начать «сокращение исторических сочинений покойнаго Татищева на немецком языке» (тоже не было сделано), при этом сказав: «Отец русской истории заслуживает того, чтобы ему отдали эту справедливость». На следующий год он, также еще находясь в России, предложил И.И. Тауберту издать «Историю Российскую», подчеркнув вновь, что Татищев «отец русской истории, и мир должен знать, что русский, а не немец явился первым творцом полного курса русской истории» (Шлецер 1875: 289, 321-322; Винтер 1960: 188).
Однако в 1768 г. Шлецер, уже перебравшись в Vaterland, в книге «Probe russischer Annalen» («Опыт изучения русских летописей») резко снизил тональность рассуждений о Татищеве. Так, говоря, что «этот ученый муж, внесший огромный вклад в историю древней Руси, подробно, достоверно и критично повествует об анналах, рукописях и продолжателях Нестора» и что еще неизданные его сочинения - «славный памятник удивительному прилежанию автора - сослужат хорошую службу тем, кто довольствуется лишь общими знаниями о древней русской истории», тут же все по сути перечеркнул: «Однако добросовестному, критичному. историку, который не принимает на веру ни одной строчки и к каждому слову требует свидетельств и доказательств, от нее нет никакого проку. Татищев собрал все известия в одну кучу, не сообщив, из какого манускрипта взято то или иное известие. Он выбрал из десяти списков один, промолчав об остальных, которые, возможно, были ему малопонятны... Иностранные источники, очень ценные для исследователя русской истории, у него отсутствуют полностью: Татищев не понимал ни старых академических, ни новых языков и был вынужден обходиться переводами на русский язык.», и что ему к тому же недоставало зарубежной литературы (Schlozer 1768: 24, 150-151). Но Татищев знал латынь, древнегреческий, немецкий, польский, был знаком с тюркскими, угро-финскими и романскими языками (Кузьмин 1981: 337).
В 1802 г. в мемуарах и «Несторе», надолго ставшем для зарубежных и отечественных исследователей путеводителем по древнерусской истории и ее историографии, Шлецер в конечном виде выразил свое отрицательное отношение к Татищеву: презрительно именуя его «писарем» - Schreiber - и говоря, что «нельзя сказать, чтобы его труд был бесполезен... хотя он и совершенно был неучен, не знал ни слова по латыни и даже не разумел ни одного из новейших языков, выключая немецкого», и твердо полагая, что история России начинается только «от пришествия Рурика и основания рускаго царства», в размышлениях русского историка о прошлом Восточной Европы до IX в., более всего им ценимые, увидел лишь «бестолковую смесь сарматов, скифов, амазонок, вандалов и т.д.» («это ни к чему не пригодная часть») или, как еще изволил выразиться, «татищевские бредни».
При этом обвиняя своего гениального предшественника, а вместе с ним других русских историков (в первую очередь, М.В. Ломоносова), в патриотических настроениях, якобы убивающих в них историков («худо понимаемая любовь к отечеству подавляет всякое критическое и беспристрастное обработывание истории. и делается смешною»): «Его работа, для которой не требовалось ученой подготовки, заслуживала всякого уважения; но вдруг этот человек заблудился: ему было невыносимо, что история России так молода и должна начинаться с Рюрика в IX столетии. Он хотел подняться выше!» (Шлецера 1875: 51, 53; Шлецер 1809: 67, 119120, 392, 418-419, 427-430, 433, прим. ** на с. 325). Хотя в 1768 г. Шлецер глядел на начало русской истории глазами Татищева: «Русские летописцы ведут свое повествование с основания монархии, но история России берет свое начало задолго до этого момента. Летописцам мало известно о народах, населявших территорию России до славян» (Schlozer 1768: 125-126, 129). Уничижительно отзываясь о том, кого он ранее характеризовал в качестве «отца русской истории», немецкий ученый вместе с тем начал вести речь о «ложной» Иоакимовской летописи и ее «бреднях», и считал эту летопись уродливым произведением «несведущего монаха» (Шлецер 1809: XXVIII, ei, рог, 19-21, 371, 381, 425)1.
В том же духе, потому как был ведом мнением Шлецера, рассуждал великий Н.М. Карамзин, представляя Татищева человеком, «нередко дозволявшим себе изобретать древние предания и рукописи», т.е. прямо обвинил его в фальсификациях (он «вымыслил речи», «вымыслил письмо»). Разумеется, и достоинство Иоакимовской летописи как источника он вслед за своим кумиром категорично отрицал, потому как она есть «вымысел», «затейливая, хотя и неудачная догадка» Татищева («мнимый Иоаким или Татищев»), а также отмечал, что с истиной о скандинавстве варягов, а в этих словах также отчетливо слышался голос Шлецера, «согласны все ученые историки, кроме Татищева и Ломоносова» (Карамзин 1989. Прим. *** на с. 23, прим. 105, 347, 385, 396, 463; Карамзин: 1829: Прим. 165).
И приговор Шлецера-Карамзина с энтузиазмом затем повторяли десятки русских специалистов, при этом часто даже не потрудившись заглянуть в труд Татищева (как и в сочинения Ломоносова). В 1836 г. известный историк Н.Г.
№1 ______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ____________________2016
Устрялов, например, говорил о бесполезных толках Татищева о скифах и сарматах, что он навлек на себя, «едва ли не основательное», подозрение в подлоге, т.к. достоверным сказаниям Нестора предпочел «нелепые бредни» Иоакимовской летописи, что его «История Российская», «в наше время, при строгих требованиях исторической критики, не имеет почти никакой цены, не взирая на то, что в ней есть показания весьма важные, не встречающиеся в других источниках», что попытки предшествовавших Карамзину русских писателей, занимавшихся историей «мимоходом, частию от скуки, частию по приказанию», ныне любопытны только, как младенческое лепетанье; у них нет ни одной яркой мысли, ни одного светлого взгляда» и что его «надежным путеводителем» был только Шлецер (Устрялов 1836: 911).
К счастью, в науке всегда имеются ученые, которые мнения предшественников, в том числе и самых именитых, перепроверяют. Подобная ревизия историографического багажа естественна и неизбежна, потому как путь к истине всегда сопряжен с малыми и большими ошибками и заблуждениями, от которых надлежит вовремя отказаться. В отношении антитатищевской позиции своих многочисленных соотечественников первым это сделал в 1839 г. норманист А.Ф. Федотов. Именуя немецких ученых Г.З. Байера, Г.Ф. Миллера и А.Л. Шлецера «нашими первоучителями», «основателями нашей исторической критики», он отметил, что норманская теория, подкрепленная этими и другими «славными именами», надолго обратилась «как бы в закон», «в догмат и для исследователей, и для читателей русской истории» (хотя после возражений Г. Эверса, изложенных «на основании правил критики самой строгой... некоторые положения поборников скандинавской родины нашей Руси решительно теряют доказательную свою силу»), и что мнения Татищева и Ломоносова приводили, как это делал Шлецер, «только в насмешку, как пример неученой фантазии». По заключению Федотова, труд Татищева, несмотря на его критику Карамзиным, составляет «примечательное явление, особенно когда сообразим и время, в которое писал он, и средства, какими мог он пользоваться», и что он, «по некоторым своим понятиям и историческим верованиям, стоял выше своего века, опередил его» (Федотов 1839: I-II, 7, 9-10, 14-92, 96, 105-107, прим. * на с. 42, прим. * на с. 50).
Намного более развернутый и более обстоятельный ответ недоброхотам Татищева дал в 1843 г. Н.А. Иванов. Проанализировав претензии Шлецера к русскому историку, «доселе повторяющиеся» в литературе, он заметил, что немецкий ученый, «слишком торопливый в своих критических отзывах на счет наших писателей, назвал Татищева истым русским Длугошем, т.е., по собственному его толкованию, бесстыдным вралем, обманщиком, сказочником». Шлецер, продолжал далее автор, этот «неумолимый судья чужих ошибок», страдая «закоренелым недугом пристрастия. довольно часто порицал наугад, порою -умышленно приводил ложные цитаты. Это давно уже доказано, и только безотчетное предубеждение доселе упорно отвергает явные улики». Говоря, что суждения Шлецера о Татищеве есть «вопиющая неправда», «хула» («нерасположение» к нему пробивается «наружу в каждой строке»), Иванов конкретными примерами подтверждает данный факт.
Вместе с тем он подчеркнул, что Миллер заимствовал сведения о летописях именно у Татищева, который, «невзирая на ограниченные способы, не устрашась никаких препон, не смущаясь ничьими подозрениями», «совершил подвиг, на который не отважился никто из его сверстников». Так, он первым рассказал о Несторе, о том, что у него были предшественники, а также продолжатели, которые редактировали его труд. В целом, как подытоживал этот историк, бесстрашно выступивший против неправды, десятилетиями считавшейся прописной истиной, потому как была освящена авторитетами Шлецера и Карамзина, направление, которому следовал Татищев, «существеннее и важнее, нежели разрывчатые, побочные изыскания Байера», и что Шлецер, «обладавший огромным запасом разнообразных сведений», очень много повторяет, в том числе и его ошибки, из Татищева - «пишет указкой Татищева!», при этом «расточительно наделяя его упреками» (Иванов 1843: 23-31, 33, 36-43, 45-46, 48, 52-64, 137-145, 206, 209, 243-247, 250251).
Наконец, в 1855 г. многое расставил по местам еще не находившийся в зените славы С.М. Соловьев, который, специально обратившись к изучению творческого наследия Татищева, подытоживал: «Но если сам Татищев откровенно говорит, какие книги у него были и какие он знает только по имени, подробно рассказывая, какие из них находились у кого из известных людей, то, видя такую добросовестность, имеем ли мы право обвинять его в искажениях, подлогах и т.п.? Если б он был писатель недобросовестный, то он написал бы, что все имел в руках, все читал, все знает. Мы имеем полное право в его своде летописей принимать одно, отвергать другое, но не имеем никакого права в неправильности некоторых известий обвинять самого Татищева. Непонятно, как смотрели на историю Татищева позднейшие писатели, позволившие себе выставлять его, как выдумщика ложных известий. Как видно, они пренебрегли первым томом, не обратили внимания ни на характер, ни на цели труда, и взявшись прямо за второй том, смотрели на его содержание, как нечто вроде Истории Щербатова, Елагина, Эмина».
«Мы же, - продолжал далее историк, - со своей стороны, должны произнести о Татищеве совершенно противоположный приговор: важное значение его состоит именно в том, что он первый начал обработывание русской истории, как следовало начать; первый дал понятие о том, как приняться за дело; первый показал, что такое русская история, какие существуют средства для ее изучения; Татищев собрал материалы и оставил их неприкосновенными, не исказил их своим крайним разумением, но предложил это свое крайнее разумение поодаль, в примечаниях, не тронув текста». Его заслуга, развивал Соловьев свою мысль далее, «состоит в том, что он первый начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии» России, «одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заниматься русскою историею», и что ему, а с ним и Ломоносову, «принадлежит самое почетное место в истории русской науки в эпоху начальных трудов» (Соловьев 1901: 1333, 1346-1347, 1350-1351).
№1 ______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ______________________2016
Именно работа Соловьева, по мере нарастания его авторитета в исторической науке, во многом привела к затуханию предъявления к Татищеву надуманных претензий. Но, вместе с тем, в ней сохранялось и культивировалось нерасположение к нему как историку, представление о нем и его русских современниках как о чем-то примитивном и не заслуживающем потому внимания. Так, к примеру, П.Н. Милюков в 1897 г. в книге «Главные течения русской исторической мысли», безудержно восхваляя стремившихся к «открытию истины» немцев, особенно Г.З. Байера и А.Л. Шлецера, противопоставил им В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, М.М. Щербатова и И.Н. Болтина, пренебрежительно, чуть ли не брезгливо отнеся их к «допотопному миру русской историографии... миру мало кому известному и мало кому интересному». И это мнение вбирали в себя будущие профессиональные историки, ибо долгое время работа Милюкова служила историографическим пособием для университетов (Милюков 1913: 31-35, 50, 71-95, 103, 108, 119, 122, 124131, 146-147; Историография 1961: 416; Пештич 1961: 27).
В советское время на авторитет Татищева как историка серьезно посягнул С.Л. Пештич, в 40-60-х гг. посвятивший, по словам А.Г. Кузьмина, «сокрушению Татищева» кандидатскую и докторскую (в своей важнейшей части) диссертации, прямо обвинив его в «"фальсификациях" в угоду своим взглядам, которые охарактеризованы как "монархические", "крепостнические" и т.п.». Поэтому, утверждал Пештич, по крайней мере, для первых веков русской истории его труд не может быть использован как источник без особой серьезной проверки: «.Наличие так называемых татищевских известий (известия, которые не подтверждаются сохранившимися источниками. - В.Ф.) в первой редакции, которые имеют много общего с авторскими добавлениями во второй редакции, нужно отнести не за счет источников, до нас не дошедших, а за счет редакторской работы Татищева.». Однако такой оценки Пештичу показалось мало, и он обвинил Татищева, за его за освещение киевских событий апреля 1113 г. в антисемитизме (это понятие, с иронией замечает Кузьмин, «появляется лишь в конце XIX века!»), впрочем, не только его одного: «Антисемитская заостренность рассказа о решении Владимира Мономаха выселить евреев из России. Заведомо извращенным описанием событий 1113 г. Татищев пытался исторически обосновать реакционное законодательство царизма в национальном вопросе. .Актуальность татищевской фальсификации доказывается широким использованием его описания событий в Киеве в произведениях Эмина, Екатерины II, Болтина.» (Д.С. Лихачев не сомневался, что «миф об "особых" источниках "Истории Российской" В.Н. Татищева разоблачен С.Л. Пештичем»).
В 1972 г. Е.М. Добрушкин своей кандидатской диссертацией «доказывал» недобросовестность «Татищева в изложении двух статей: 1113 года (восстание в Киеве против ростовщиков и выселение иудеев из Руси) и 1185 года (поход Игоря Северского на половцев)» (по его мнению, сообщение о княжеском съезде 1113 г., постановившего изгнать «жидов» из пределов Руси, выдумано историком). Чуть позже он с той же настойчивостью навязывал науке мысль, что «задача исследователя - установить, что в "Истории Российской" В.Н. Татищева действительно заимствовано из источников, а что вышло из-под его пера». Кузьмин,
№1 ______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ _____________________2016
говоря о предвзятости С.Л. Пештича, С.Н. Валка, Е.М. Добрушкина, А.Л. Монгайта, с которой они подходили к Татищеву, отметил наличие у них общих методологических и фактических ошибок.
Во-первых, они сопоставляют, по примеру Н.М. Карамзина, «Историю» Татищева с Лаврентьевской и Ипатьевской летописями, которых тот никогда не видел. Во-вторых, неверно понимают как источники, лежащие в основе «Истории Российской», так и сущность и характер летописания. Представляя последнее «единой централизованной традицией вплоть до XII века», они не ставят «даже вопроса о том, в какой мере до нас дошли летописные памятники домонгольской эпохи», и не допускают мысли о существовании разных летописных традиций, «многие из которых погибли или же сохранились в отдельных фрагментах. Татищев же пользовался такими материалами, которые на протяжении веков сохранялись на периферии и содержали как бы неортодоксальные записи и известия».
В-третьих, заострял внимание ученый, - это отсутствие у Татищева серьезного мотива для предполагаемых фальсификаций (в данном случае необходимо напомнить и слова М.Н. Тихомирова, произнесенные в 1962 г.: «Если стать на точку зрения тех историков, которые обвиняют Татищева в сознательном подлоге, то остается совершенно непонятным, зачем Татищеву понадобилось умалять значение» Иоакимовской летописи «ссылками на то, что она была написана новым худым письмом и новгородским наречием. Зачем понадобилось для него отмечать близкое сходство известий» этой летописи «с известиями польских авторов, которых Татищев неоднократно обвиняет в баснословии»).
И если, как справедливо резюмировал в 1981 г. Кузьмин, «субъективная добросовестность историка уже не может вызывать сомнений, то вопрос о способах его работы нуждается еще в более внимательном изучении», что «принцип историзма, свойственный Татищеву во всех его начинаниях, и повел его в конечном счете к созданию капитального труда по отечественной истории», позволил ему, при отсутствии предшественников, найти много «такого, что наукой было принято лишь много времени спустя». Причем, как особо выделил исследователь, весь первый том «Истории Российской», которым, если вспомнить заключение С.М. Соловьева, «пренебрегли» его критики, «был посвящен анализу источников и всякого рода вспомогательным разысканиям, необходимым для решения основных вопросов. Именно наличием такого тома труд Татищева положительно отличается не только от изложения Карамзина, но даже и Соловьева. В XIX веке вообще не было работы, равной татищевской в этом отношении» (Тихомиров 1962: 51; Пештич 1961: 222-262; Пештич 1965: 155-163; Добрушкин 1977: 96; Кузьмин 1972: 79-89: Кузьмин 1981: 338340, 343-344; Журавель 2004: 138-142).
Но субъективная добросовестность Татищева-историка многим не дает покоя. И сегодня в застрельщиках новой антитатищевской кампании ходит украинский историк А.П. Толочко, уверявший в 2005 г., «что в распоряжении Татищева не было никаких источников, неизвестных современной науке. Вся информация, превышающая объем известных летописей, должна быть отнесена на счет авторской активности самого Татищева». И у которого, что весьма показательно, тут же нашлись подражатели в нашей исторической науке. Так, в 2006 г. нижегородский
№1 ______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ _____________________2016
ученый А.А. Кузнецов, повествуя о деятельности владимирского князя Юрия Всеволодовича, устраняет, как сам говорит, «ряд стереотипов исторической науки, основанных на... необоснованном привлечении "Истории Российской" В.Н. Татищева», который «испытывал антипатию к этому князю и сознательно переносил ее на страницы своего труда» (ведомый выводом Толочко, что «любимым персонажем» нашего первого историка был Константин Всеволодович, Кузнецов пишет, что он «оправдывал», «обелял» Константина и «чернил» Юрия).
Уникальные известия Татищева Кузнецов характеризует как «домысел», «фантазии», «мистификации», «авторский произвол», утверждает, что он «судил о прошлом, доверяя поздним источникам, искажая их данные, на основе реалий своего бурного XVIII столетия», «придумывал» факты и «волевым решением менял смысл непонятной источниковой информации» (т.е. по сути повторяет штампы, брошенные в адрес Татищева Пештичем и Толочко). Укоряя «отдельных» предшественников в том, что они «не утруждают себя критическим разбором «сведений» Татищева и легко доверяют ему, Кузнецов восхищается «остроумным и блестящим экскурсом» Толочко в творческую лабораторию Татищева, реконструкцией его источниковой базы, демонстрацией «массива его авторских мыслей под видом источниковых известий», доказательством того, «что уникальных-то известий труд историка XVIII в. не содержит», и благодарит украинского коллегу за «глубокие замечания», которые «очень помогли» автору при работе над монографией (Кузнецов 2006: 9, 47-48, 88, 93, 96-97, 103-109, 114-115, 131, 210-212, 220, 223-224, 273-276, 479-480, 501-502, 505-506, 509, 514).
Параллельно с такой безудержной апологетикой очередного «ниспровергателя» Татищева в нашей науке идет «раскручивание» идей украинского ученого под видом их критики. Показательна в этом плане статья московского исследователя П.С. Стефановича, которая больше похожа на весьма обширную рецензию на работу Толочко «"История Российская" Василия Татищева: источники и известия» (М., Киев, 2005), но где вместо действительно академического разбора дано совершено иное. Как пишет сам автор, «разумеется, цель моей критики не в том, чтобы умалить достоинства книги современного историка, но в том, чтобы добиться ясности и объективности в оценке труда одного из тех, кто стоял у истоков русской исторической науки» (довольно странно и двусмысленно сформулированная цель, к тому же самому Татищеву даже не предоставлено слово. Нет и намека - то ли по незнанию, то ли по тенденциозному умолчанию - на то, что в науке уже имеются многочисленные опровержения взглядов Толочко, высказанных им в монографии и предшествующих ей статьях).
И за какие такие «ясность» и «объективность» вышел биться в 2007 г. на страницах известного академического журнала Стефанович? Да за те же, что проводит Толочко. Причем делает он это совершено голословно, внушая читателям мнение, что тот «убедительно показал», что Татищев «в ряде случаев и сознательно давал ложные отсылки к источникам», что после труда Толочко уникальную информацию со ссылками на «манускрипты» А.П. Волынского, П.М. Еропкина, А.Ф. Хрущева, Иоакимовскую летопись «рассматривать как достоверную никак нельзя», что, как «хорошо показано Толочко», «нельзя сомневаться и в том, что Татищев мог
№1 _____________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ _____________________2016
сам додумывать и дополнять известия своих источников и даже просто сочинять новые тексты» (например, Иоакимовскую летопись, а статья 1203 г. с «конституционным проектом» Романа Мстиславича есть «чистая выдумка Татищева»).
При этом свое единодушие с Толочко Стефанович прикрывает ритуальными оговорками, долженствующими якобы показать, что сам рецензент стоит, конечно, над «схваткой» и беспристрастен (некоторые его утверждения и заключения, «в том числе принципиального характера, кажутся слишком категоричными или недостаточно обоснованными», он, «думаю, все-таки не совсем прав», что Татищева называть «мистификатором, лгуном и фальсификатором, с моей точки зрения, также неправильно, как считать его летописцем или сводчиком»). Неудержимо стремясь к «ясности» и «объективности», Стефанович не скупится на хвалебные эпитеты в адрес Толочко: что он, проводя «тонкий анализ», «пишет в яркой, оригинальной манере, причем свободный, несколько ироничный стиль не мешает ему оставаться на высоком научном уровне обсуждения проблемы», что, «без сомнения, перед нами талантливое и интересное исследование», что он существенно пополнил ряд «разоблачений», что «благодаря работе Толочко - острой и будящей исследовательскую мысль - мы существенно продвинулись на пути изучения «татищевские известий» и вместе с тем приблизились к пониманию «творческой лаборатории» историка первой половины XVIII в.». После чего с юношеским оптимизмом завершает свой панегирик, «пока этот путь далеко не пройден, и можно с уверенностью утверждать, что ученых здесь ждет еще немало открытий и неожиданностей» (Стефанович 2007: 88-96).
Какие «открытия» и даже «неожиданности» нас ждут, догадаться нетрудно. И этот легко прогнозируемый результат к науке отнести уже по причине такой легкости никак нельзя, да и сам метод подгона решения задачи под нужный кому-то ответ ей, как отмечалось выше, чужд. И с таким результатом не могут согласиться те ученые, которым дорога истина, а не шумные «разоблачения», за которыми стоят все же не имеющие к науке интересы. Так, несостоятельность приписывания Толочко Татищеву авторства Романовского проекта 1203 г., почему-то названного Толочко, недоумевает автор, «конституцией», показал в 2000 г. В.П. Богданов (Богданов 2000: 215-222). В 2005-2006 гг. А.В. Майоров, ссылаясь на археологический материал, доказал в ряде публикаций, вышедших в Белоруссии и России, что в руках Татищева была недошедшая до нас Полоцкая летопись, в которой Толочко также видит выдумку Татищева (Майоров 2006: 321-343). В 2006-2007 гг. С.Н. Азбелев, остановившись на попытках дискредитации Татищева-историка, верно подчеркнул, что, «не относясь к категории серьезных публикаций, они требуют, однако, упоминаний вследствие своей агрессивности». И к данной категории он отнес «многословное ёрничество» Толочко, констатируя, что в его работах «слишком много ошибок и неточностей, а в характеристиках использованных материалов присутствуют тенденциозные передергивания», и что эти работы могут «существенно повредить научной репутации автора, особенно - с его демонстративно-пренебрежительным отношением к ученым прошлого и к современникам, дурные привычки которых, по словам А.П. Толочко, проявлялись в использовании Иоакимовской летописи» (Азбелев 2006: 250-284; Азбелев 2007: 6-34).
№1 ______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ______________________2016
В 2006 г. блестяще вскрыл суть мистификаторских уловок и подлогов Толочко А.В. Журавель. Охарактеризовав этого представителя украинской науки в качестве Герострата, для которого Татищев - «лишь средство самоутверждения, "объяснительное устройство" при обосновании права на собственную мистификацию», он заключает, что его сочинение «лишь выглядит наукообразным, а к науке имеет отношение очень косвенное», и на конкретных фактах показал, «что у Татищева действительно были те уникальные источники, о которых он говорит» (в том, например, убеждают хронологические неточности в его «Истории Российской»). Вместе с тем Журавель, сказав, что надо открыто называть вещи своими именами, заметил, что «преступление Пештича - не в том, что он публично заклеймил Татищева как фальсификатора, а в том, что он сделал это без должных на то оснований; отдельно замеченные им улики, сами по себе еще не составляющие состава преступления, он посчитал достаточным для вынесения приговора. И потому сами его действия составляют состав преступления и именуются "клеветой"».
Абсолютно уместным выглядит и другой вывод автора: нужно «вновь поставить вопрос об ответственности ученого за свои слова» и об ответственности тех, кто приступает к теме «татищевские известий», т.к. она «очень трудна и многопланова и заведомо непосильна для начинающих исследователей», а именно последние, плохо зная летописи, «и составили основную массу активных "скептиков»!". Таковым был и Пештич: его суждения о Татищеве сложились в 30-е гг., когда он был еще студентом» (тоже самое Журавель справедливо заметил и в адрес Е.М. Добрушкина. А в 2004 г. он, на конкретных фактах хронологического свойства показывая несостоятельность претензий Пештича и Добрушкина к Татищеву, верно заключил, что прокурорский тон по отношению к последнему «есть всего лишь показатель того, что историографии ХХ в. так и не удалось достичь того уровня понимания вещей, который свойственен позднему Татищеву», что в отличие от него «Добрушкин выдумал очень многое в прямом смысле слова» и что «с фактами у критиков В.Н. Татищева дела обстоят очень и очень неважно») (Журавель 2004: 135-142; Журавель: 524-544).
В 2007 г. С.В. Рыбаков, демонстрируя величие Татищева-историка, напомнил давно всем хорошо известное: «Авторы, ставившие под сомнение научный характер источниковедческой работы Татищева или самих источников, не вполне верно понимали характер и реальную роль древнерусского летописания, представляя его гораздо более централизованным, чем это было на самом деле, считая, что все древнерусское летописание связывалось с неким единым первоисточником». Ныне признается, констатирует он далее, «что с древности на Руси существовали различные летописные традиции, в том числе и периферийные, не совпадающие с «канонами» наиболее известных летописей» (Рыбаков 2007: 166). В целом же, как то демонстрирует историографический опыт, «молодецкие» наскоки на Татищева, «антитатищевский» комплекс вообще являются своего рода знаком научной недобросовестности и, в какой-то мере, научной несостоятельности. Критика источников и научных изысканий - непременное правило работы ученого, но она
№1 _____________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ____________________2016
должна быть действительно критикой, а не критиканством, компрометирующим историческую науку.
Историческую науку компрометирует и та, конечно, некорректность, с которой «антитатищевцы» «опровергают» мнения специалистов, чьи труды в области источниковедения и творчества Татищева являются примером профессионального отношения к делу. Так, П.С. Стефанович в 2006 г., утверждая, что оригинальность известия историка о пленении перемышльского князя Володаря в 1122 г. «надо связывать не с некими аутентичными, но не сохранившимися источниками, а со своеобразными способом повествования и методом подачи собственных интерпретаций, присущими автору первой научной "русской гистории"», т.е., проще говоря, объявил эту оригинальность выдумкой Татищева, заключил, не приведя и, понятно, не опровергая их аргументацию, что, «конечно, защита "доброго имени" "последнего русского летописца" в духе Б.А. Рыбакова и А.Г. Кузьмина просто наивна». При этом его собственные «наблюдения над исследовательским методом и манерой изложения В.Н. Татищева», не сомневается Стефанович, «могут быть небесполезны в дальнейшем (по большему счету, еще только начавшемся) изучении как уникальных "татищевских известий", так и ранних этапов развития отечественной исторической науки» (Стефанович 2008: 87, 89).
Критиканство, а вместе с тем ненависть и смертельно опасное для того времени обвинение В.Н. Татищев сполна познал при жизни, что, кстати сказать, не позволило ему увидеть свой труд изданным. В «Предъизвесчении» он вспоминает, как в 1739 г. в Санкт-Петербурге, «требуя к тому помосчи и разсуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить», многих знакомил с рукописью «Истории Российской» и слышал о ней разные мнения: «иному то, другому другое ненравно было, что один хотел, дабы пространнее и ясняе написать, то самое другой советовал сократить или совсем оставить. Да недовольно было того. Явились некоторые с тяжким порицанием, якобы я в оной православную веру и закон (как те безумцы произнесли) опровергал...». И обращаясь к оппонентам, в том числе будущим, историк верно обрисовал их задачу и в деле критики своей «Истории Российской», и в деле служения исторической науке: «.Когда они более науками преисполнены, то б сами за сие весьма нужндное отечеству взялись и лучше сочинили», «но паче надеюсь, если кто из таких в науках превосходный, к пользе отечества столько же, как я, ревности имеюсчий, усмотря мои недостатки, сам почтитца погрешности исправить, темности изъяснить, а недостатки дополнить и в лучшее состояние привести, себе же большее благодарение, нежели я требую, преобрести».
Свое кредо как историка и как источниковеда Татищев четко изложил в том же «Предъизвесчении», куда, как можно судить по их приговорам, любители разговаривать с ним свысока либо не заглядывали, либо ничего там не смогли (или не захотели) увидеть: «.Что в настоясчей истории явятся многих знатных родов великие пороки, которые если писать, то их самих или их наследников подвигнуть на злобу, а обойти оные - погубить истинну и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже бы было с совестию не согласно, того ради оное оставляю иным для сочинения». Говоря о своей манере работы с источниками, он разъяснял, что «если бы наречие и порядок их переменить, то опасно, чтоб и вероятности не
№1 ______________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ______________________2016
погубить. Для того разсудил за лучшее писать тем порядком и наречием, каковы в древних находятся, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написали, не переменяя, ни убавливая из них ничего (курсив мой. - В.Ф.), кроме не надлежасчаго к светской летописи, яко жития святых, чудеса, явления и пр., которые в книгах церковных обильнее находятся, но и те по порядку некоторые на конце приложил, також ничего не прибавливал (курсив мой. - В.Ф.), разве необходимо нуждное для выразумения слово положить и то отличил вместительною». А в конце «Предъизвесчения» ученый подчеркнул два важных обстоятельства: «...Я мню, что на нравы и разсуждения всех людей угодить неможно» и «что все деяния от ума или глупости произходят» (Татищев 1962: 85-86, 89-92).
Историк, конечно, и не должен кому-то в чем-то угождать, и он также не избавлен от разного рода ошибок и недостатков, тем более, когда речь идет о Татищеве, все делавшем в русской исторической науке в первый раз и тем самым ее создававший. Но стоит об этом говорить без тенденциозности и агрессивности, с проявлением предельного такта и, разумеется, глубокого знания и понимания самого предмета разговора.
Возвращаясь к одному из доводов С.Н. Азбелева, следует напомнить, что В.Л. Янин на археологическом материале подтвердил полную достоверность рассказа Иоакимовской летописи о том, что в Новгороде крещение встретило мощное сопротивление язычников, подавленное воеводами Владимира Путятой и Добрыней (в них ученый видит самостоятельную повесть, написанную очевидцем событий). Им были выявлены следы пожара, который датируется дендрохрологическим методом 989 г. и «который уничтожил все сооружения на большой площади»: «береговые кварталы в Неревском и, возможно, в Людином конце». А ведь именно этот рассказ прежде всего и воспринимался в качестве фальшивки. Как утверждал Н.М. Карамзин, «из всех сказаний мнимого Иоакима самое любопытнейшее есть о введении христианской веры в Новгороде; жаль, что она выдумка, основанная единственно на старинной пословице: Путята крести мечем, а Добрыня мечем!» (Карамзин 1989: Прим. 463; Янин 1984: 53-56).
Но все, как показывают археологические данные, обстояло иначе, и Иоакимовская летопись, несмотря на свой весьма сложный характер, является ценным источником, который, конечно, при внимательном и добросовестном отношении к себе может дать очень важную информацию. В целом же, если вновь обратиться к наблюдениям С.М. Соловьева, а его слова становятся все более актуальными, Татищеву мы обязаны «сохранением известий из таких списков летописи, которые, быть может, навсегда для нас потеряны; важность же этих известий для науки становится день ото дня ощутительнее» (Соловьев 1901: 1347). Однако то, что ощущает наука, «скептикам» ощутить не дано.
А нашему дорогому юбиляру, защитнику и Отечества, и его истории, -Сергею Николаевичу Азбелеву - желаю здравствовать и новых успехов на научном поприще. И очень горжусь тем, что лично знаком с этим замечательным человеком и ученым.
№1 ___________________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ______________________________2016
ЛИТЕРАТУРА
Азбелев 2006 - Азбелев С.Н. Устная история Великого Новгорода. Великий Новгород, 2006. Азбелев 2007 - Азбелев С.Н. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб., 2007.
Богданов 2000 - Богданов В.П. Романовский проект 1203 г.: памятник древнерусской политической мысли или выдумка В.Н. Татищева // Сборник Русского исторического общества. Т. 3 (151). Антифоменко. М., 2000.
Винтер 1960 - Винтер Э. Неизвестные материалы о А.Л. Шлецере // Исторический архив. 1960.
Добрушкин 1977 - Добрушкин Е.М. О методике изучения «татищевских известий» // Источниковедение отечественной истории. Сб. статей 1976. М., 1977.
Журавель 2004 - Журавель А.В. Еще раз о «татищевских известиях» (хронологический аспект) // Отечественная культура и историческая мысль XVIII-XX веков / Сб. статей и материалов. Вып. 3. Брянск, 2004.
Журавель 2006 - Журавель А.В. Новый Герострат, или У истоков «модерной истории» // Сборник Русского исторического общества. Т. 10 (158). Россия и Крым. М., 2006.
Иванов 1843 - Иванов Н.А. Общее понятие о хронографах и описание некоторых списков их, хранящихся в библиотеках санкт-петербургских и московских. Казань, 1843.
Историография 1961 - Историография истории СССР. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции / Под ред. В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева. М., 1961. Карамзин 1829 - Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. XII. СПб., 1829.
Карамзин 1989 - Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. I. М., 1989.
Кузнецов 2006 - Кузнецов А.А. Владимирский князь Георгий Всеволодович в истории Руси первой трети XIII в. Особенности преломления источников в историографии. Нижний Новгород, 2006.
Кузьмин 1972 - Кузьмин А.Г. Статья 1113 г. в «Истории Российской» В.Н. Татищева // Вестник МГУ. 1972. № 5.
Кузьмин 1981 - Кузьмин А.Г. Татищев. М., 1981.
Майоров 2006 - Майоров А.В. О Полоцкой летописи В.Н. Татищева // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы Российской Академии наук. Т. 57. СПб., 2006.
Миллер 1996 - Миллер Г.Ф. О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оныя // Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. Избранное / Составл., статья А.Б. Каменского / Примечания А.Б. Каменского и О.М. Медушевской. М., 1996.
Миллер 2006 - Миллер Г.Ф. О народах издревле в России обитавших // Миллер Г.Ф. Избранные труды / Сост., статья, примеч. С.С. Илизарова. М., 2006.
Милюков 1913 - Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. Изд. 3-е. СПб.,
Моисеева 1967 - Моисеева Г.Н. Из истории изучения русских летописей в XVIII веке (Герард-Фридрих Миллер) // Русская литература. 1967. № 1.
Моисеева 1971 - Моисеева Г.Н. Ломоносов и древнерусская литература. Л., 1971.
Пекарский 1870 - Пекарский П.П. История императорской Академии наук в Петербурге. Т. I. СПб., 1870.
Пештич 1961 - Пештич СЛ. Русская историография XVIII века. Ч. I. Л., 1961.
Пештич 1965 - Пештич СЛ. Русская историография XVIII века. Ч. II. Л., 1965.
Рыбаков 2007 - Рыбаков С.В. Татищев в зеркале русской историографии // Вопросы истории. 2007. № 4.
Соловьев 1901 - Соловьев С.М. Писатели русской истории XVIII века // Собрание сочинений С.М. Соловьева. СПб., 1901.
Стефанович 2007 - Стефанович П.С. «История Российская» В.Н. Татищева: споры
продолжаются // Отечественная история. 2007. № 3.
№1 ___________________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ________________________________2016
Стефанович 2008 - Стефанович П.С. Володарь Перемышльский в плену у поляков (1122 г.): источник, факт, легенда, вымысел // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2008. № 4 (26).
Татищев 1962 - Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. I. М.; Л., 1962.
Татищев 1964 - Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. IV. М.; Л.,
Татищев 1968 - Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. VII. Л., 1968.
Татищев 1979 - Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979.
Тихомиров 1962 - Тихомиров М.Н. О русских источниках «Истории Российской» // Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Т. I. М.; Л., 1962.
Устрялов 1863 - Устрялов Н.Г. О системе прагматической русской истории. СПб., 1836.
Федотов 1839 - Федотов А.Ф. О главнейших трудах по части критической русской истории. М.,
Фомин 2006 - Фомин В.В. Ломоносов: Гений русской истории. М., 2006.
Фомин 2008 - Фомин В.В. С.Н. Азбелев. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПБ., Издательство «Дмитрий Буланин» // Вопросы истории. 2008. № 3.
Фомин 2010 - Фомин В.В. Ломоносовофобия российских норманистов // Варяго-русский вопрос в историографии / Сб. статей и монографий / Составит. и ред. В.В. Фомин. М., 2010.
Шлецер 1809 - Шлецер А.Л. Нестор. Ч. I. СПб., 1809.
Шлецер 1875 - Шлецер АЛ. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. СПб., 1875.
Янин 1984 - Янин ВЛ. Летописные рассказы о крещении новгородцев (о возможном источнике Иоакимовской летописи) // Русский город (Исследования и материалы). Вып. 7. М., 1984.
Schlozer 1768 - Schlozer A.L. Probe russischer Annalen. Bremen, Gottingen, 1768.
Azbelev 2006 - Azbelev S.N. Ustnaja istorija Velikogo Novgoroda , Veliky Novgorod, 2006 .
Azbelev 2007 - Azbelev S.N. Ustnaja istorija v pamjatnikah Novgoroda i Novgorodskoj zemli , St. Petersburg, 2007 .
Bogdanov 2000 - Bogdanov V.P. Romanovskij proekt 1203 g.: pamjatnik drevnerusskoj politicheskoj mysli ili vydumka V.N. Tatishheva , in: Sbornik Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 3 (151). Antifomenko , Moscow, 2000 .
Dobrushkin 1977 - Dobrushkin E.M. O metodike izuchenija «tatishhevskih izvestij» , in: Istochnikovedenie otechestvennoj istorii. Sb. statej 1976 , Moscow, 1977 .
Fedotov 1839 - Fedotov A.F. O glavnejshih trudah po chasti kriticheskoj russkoj istorii , Moscow, 1839 .
Fomin 2006 - Fomin V.V. Lomonosov: Genij russkoj istorii , Moscow, 2006 .
Fomin 2008 - Fomin V.V. S.N. Azbelev. Ustnaja istorija v pamjatnikah Novgoroda i Novgorodskoj zemli. SPB., Izdatel’stvo «Dmitrij Bulanin» , in: Voprosy istorii , 2008, № 3 .
Fomin 2010 - Fomin V.V. Lomonosovofobija rossijskih normanistov , in: Varjago-russkij vopros v istoriografii / Sb. statej i monografij / Sostavit. i red. V.V. Fomin , Moscow, 2010 .
Istoriografija 1961 - Istoriografija istorii SSSR. S drevnejshih vremen do Velikoj Oktjabr’skoj socialisticheskoj revoljucii / Pod red. V.E. Illerickogo i I.A. Kudrjavceva , Moscow, 1961 .
Ivanov 1843 - Ivanov N.A. Obshhee ponjatie o hronografah i opisanie nekotoryh spiskov ih, hranjashhihsja v bibliotekah s.peterburgskih i moskovskih , Kazan, 1843 .
Janin 1984 - Janin V.L. Letopisnye rasskazy o kreshhenii novgorodcev (o vozmozhnom istochnike Ioakimovskoj letopisi) , in: Russkij gorod (Issledovanija i materialy). Vyp. 7 , Moscow, 1984 .
Karamzin 1829 - Karamzin N.M. Istorija gosudarstva Rossijskogo. T. XII , St. Petersburg, 1829 .
Karamzin 1989 - Karamzin N.M. Istorija gosudarstva Rossijskogo. T. I , Moscow, 1989 .
Kuz’min 1972 - Kuz"min A.G. Stat’ja 1113 g. v «Istorii Rossijskoj» V.N. Tatishheva , in: Vestnik MGU , 1972, № 5 .
Kuz’min 1981 - Kuz"min A.G. Tatishhev , Moscow, 1981 .
Kuznecov 2006 - Kuznecov A.A. Vladimirskij knjaz’ Georgij Vsevolodovich v istorii Rusi pervoj treti XIII v. Osobennosti prelomlenija istoch-nikov v istoriografii , Nizhny Novgorod, 2006 .
Majorov 2006 - Majorov A.V. O Polockoj letopisi V.N. Tatishheva , in: Trudy otdela drevnerusskoj literatury Instituta russkoj literatury Ros-sijskoj Akademii nauk. T. 57 , St. Petersburg, 2006 .
Miljukov 1913 - Miljukov P.N. Glavnye techenija russkoj istoricheskoj mysli. Izd. 3-e , St. Petersburg, 1913 .
Miller 1996 - Miller G.F. O pervom letopisatele rossijskom prepodobnom Nestore, o ego letopisi i o prodolzhateljah onyja , in: Miller G.F. Sochinenija po istorii Rossii. Izbrannoe / Sostavl., stat’ja A.B. Kamenskogo / Primechanija A.B. Kamenskogo i O.M. Medushevskoj , Moscow, 1996 .
Miller 2006 - Miller G.F. O narodah izdrevle v Rossii obitavshih , in: Miller G.F. Izbrannye trudy / Sost., stat’ja, primech. S.S. Ilizarova , Moscow, 2006 .
Moiseeva 1967 - Moiseeva G.N. Iz istorii izuchenija russkih letopisej v XVIII veke (Gerard-Fridrih Miller) , in: Russkaja literatura , 1967, № 1 .
Moiseeva 1971 - Moiseeva G.N. Lomonosov i drevnerusskaja literatura , Leningrad, 1971 .
Pekarskij 1870 - Pekarskij P.P. Istorija imperatorskoj Akademii nauk v Peterburge. T. I , St. Petersburg, 1870 .
Peshtich 1961 - Peshtich S.L. Russkaja istoriografija XVIII veka. Ch. I , Leningrad, 1961 .
Peshtich 1965 - Peshtich S.L. Russkaja istoriografija XVIII veka. Ch. II , Leningrad, 1965 .
Rybakov 2007 - Rybakov S.V. Tatishhev v zerkale russkoj istoriografii , in: Voprosy istorii , 2007, № 4 .
Schlozer 1768 - Schlozer A.L. Probe russischer Annalen , Bremen, Gottingen, 1768 .
Shlecer 1809 - Shlecer A.L. Nestor. Ch. I , St. Petersburg, 1809 .
№1 _______________________________ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМАТ ______________________________________2016
Shlecer 1875 - Shlecer A.L. Obshhestvennaja i chastnaja zhizn’ Avgusta Ljudviga Shlecera, im samim opisannaja , St. Petersburg, 1875 .
Solov’ev 1901 - Solov"ev S.M. Pisateli russkoj istorii XVIII veka , in: Sobranie sochinenij S.M. Solov’eva , St. Petersburg, 1901 .
Stefanovich 2007 - Stefanovich P.S. «Istorija Rossijskaja» V.N. Tatishheva: spory prodolzhajutsja [«History Russian» of V.N. Tatishchev: disputes continue], in: Otechestvennaja istorija , 2007, № 3 .
Stefanovich 2008 - Stefanovich P.S. Volodar’ Peremyshl’skij v plenu u poljakov (1122 g.): istochnik, fakt, legenda, vymysel , in: Drevnjaja Rus’. Voprosy medievistiki , 2008, № 4 (26) .
Tatishhev 1962 - Tatishhev V.N. Istorija Rossijskaja s samyh drevnejshih vremen. T. I , Moscow; Leningrad, 1962 .
Tatishhev 1964 - Tatishhev V.N. Istorija Rossijskaja s samyh drevnejshih vremen. T. IV , Moscow; Leningrad, 1964 .
Tatishhev 1968 - Tatishhev V.N. Istorija Rossijskaja s samyh drevnejshih vremen. T. VII , Leningrad, 1968 .
Tatishhev 1979 - Tatishhev V.N. Izbrannye proizvedenija , Leningrad, 1979 .
Tihomirov 1962 - Tihomirov M.N. O russkih istochnikah «Istorii Rossijskoj» , in: Tatishhev V.N. Istorija Rossijskaja s samyh drevnejshih vremen. T. I , Moscow; Leningrad, 1962 .
Ustrjalov 1863 - Ustrjalov N.G. O sisteme pragmaticheskoj russkoj istorii , St. Petersburg, 1836 .
Vinter 1960 - Vinter Je. Neizvestnye materialy o A.L. Shlecere , in: Is-toricheskij arhiv , 1960, № 6 .
Zhuravel’ 2004 - Zhuravel" A.V. Eshhe raz o «tatishhevskih izvestijah» (hronologicheskij aspekt) , in: Otechestvennaja kul’tura i istoricheskaja mysl’ XVIII-XX vekov / Sb. statej i materialov. Vyp. 3 , Bryansk, 2004 .
Zhuravel’ 2006 - Zhuravel" A.V. Novyj Gerostrat, ili U istokov «modernoj istorii» , in: Sbornik Russkogo istoricheskogo obshhestva. T. 10 (158) Rossija i Krym , Moscow, 2006 .
Фомин Вячеслав Васильевич - Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Липецкого государственного педагогического университета (Липецк, Россия). Fomin Vyacheslav - Doctor of historical sciences, Professor, Head of the Department of national history of the Lipetsk state pedagogical university (Lipetsk, Russia).